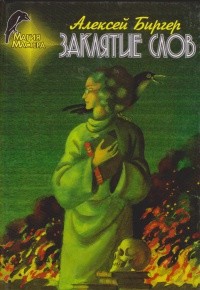Баратынский? Если в Москве, то кланяйтесь ему от меня: ведь он, кажется, ездил в Крым!
Прощайте. Будьте здоровы, не ездите на пугливых и бурных лошадях и не встречайтесь с писательницами [?].
Ваш Н. Языков.
Алексею Андреевичу мое почтение. Когда соберусь с силами, напишу к нему послание с вод морских о моей жизни заморской. Меченосцу [то бишь, Петру Киреевскому, главному и непримиримому воителю со станом «западников»] жму руку. Всем Вашим мой поклон. Что же И. В. Киреевский и его повести и пр. дела литературные?»
Потрясающе! Можно сказать, Языков переживает собственную «Болдинскую осень», написано столько и такого уровня, что когда и успел-то, а «В Италии мне скучнее, нежели в неметчине, и я то и дело раскаиваюсь, что забрался в эту даль: лекаря здесь дрянные, народ подлый, мерзкий и нищий, скука да и только! Стихи на ум нейдут, когда и соберусь писать – все это не так, как бы на Руси! Жду не дождусь, когда в обратный путь: здоровья, видно, мне уже и во сне не видать, хоть бы домой…» Да, со здоровьем все хуже, но если то, что сделал Языков, называется «стихи на ум нейдут» и никак он не «соберется писать», то что же понимает он под истинным приливом творческих сил? А как он воспел море у берегов Ниццы, ее пейзажи… «Морская тоня», «Буря», «Морское купание»; да и поглядите, как в послании Каролине Павловой Ницца описана – столько искреннего, сердечного любования краем, где «воздух сладостный как мед»; а «народ подлый, мерзкий и нищий» изображен с большим сочувствием, с пониманием тяжести их опасного труда:
…Что ж ты, дало ль, сине море
Рыбакам хоть на вино?
– И скорее звучит осуждение «чистой» публики, богатых отдыхающих с разных концов света:
…Видом моря любоваться
Собралась толпа гостей.
Ей мешают наслаждаться
Рыбаки: бегут за ней,
И канючат, денег просят, —
Беднякам из бездны вод
Сети длинные приносят
Непитательный доход!
Скажем, прямая противоположность Тютчеву, у которого все наоборот: в письмах и личных высказываниях Ницца для него благословенный край, а в знаменитом стихотворении «О, этот юг! О, эта Ницца…» та же Ницца внутренне отторгается, предстает обителью внутренней боли и страдания.
Один этот пример может подчеркнуть и подтвердить то, о чем мы говорили: отношение Тютчева к поэзии противоположно по внутреннему посылу отношению Пушкина и Языкова, и потому для Пушкина Языков был так дорог, а Тютчева он в целом не принял.
3
А между тем…
Языков покинул Ниццу, вернулся в Германию, с Гоголем он в самой активной переписке… незаметно наступает 1841 год.
Год во многом переломный.
Просто перечислим вкратце, что в этот год произошло.
Смерть Лермонтова.
В России запущена первая железная дорога – между Петербургом и Царским Селом.
Императорским указом основана государственная система сберегательных касс для самых широких слоев населения – то, что теперь называется Сбербанк.
В Россию завезена карточная игра преферанс, сразу обретающая миллионы поклонников. Ей посвящают стихи, в несколько месяцев рождаются преферансные мифы и легенды.
В России впервые ставят рождественские елки. Да-да, именно в 1841 году, хотя всем невольно думается, что пошло от Петра I. Петр повелел отмечать Рождество и Новый год «по-европейски». Помещения украшались еловым лапником, букетами из крупных еловых веток, которые всячески украшались, могли украшать и омелой, и другими деревьями. Но цельные еловые деревья – по немецкой традиции – начинают устанавливать именно и только с 1841 года, почин идет от Зимнего дворца.
Россия присоединяется к перевороту, происходящему во всем мире: железные дороги и банковская система, способная финансировать промышленность и сама опираться на промышленный капитал – вот две главных составляющих этого переворота. Всего несколько километров рельсов и несколько скромных помещений, где от населения начали принимать деньги на сбережение и на приумножение в результате их оборота, но уже очень многое не будет так, как прежде.
Елки и преферанс утверждают крепнущие связи с Европой на бытовом, атомарном уровне. Но атомарный уровень бывает прочнее всего.
Между тем, уже начинает готовиться императорский указ о резком ужесточении выдачи паспортов для поездок за границу…
Что говорить о выстреле на Машуке? Общее потрясение. Совсем недавно Лермонтов читал Гоголю «Мцыри». В последние два года жизни еще больше сблизился с Хомяковым, отдал «Спор» и ряд других стихотворений ему в журнал, а не Краевскому.
Все ощущают слом эпох. Россия окончательно вступает в «железный век».
В «Москвитяние» выходит очередное послание Языкова Каролине Павловой, написанное в Ницце: «Забыли вы меня! Я сам же виноват…»
Гоголь потрясен, он в восторге, просит Екатерину Михайловну Хомякову-Языкову обязательно переписать для него эти стихи.
Языков пишет поэтическое послание Гоголю – в ответ на письмо, в котором Гоголь сообщает, что возвращается наконец на родину.
Языков продолжает выдавать в печать урожай, собранный в Ницце. А Гоголь как раз завершает новую редакцию «Тараса Бульбы». Кто сказал, что у Гоголя гаснут силы? Повторю уже сказанное: из просто гениального произведение становится истинно великим. Если в первом варианте Тарас Бульба все-таки сколько-то отморозок, не знающий удержу своей воле и признающий лишь законы своей вольницы, то после кардинальной, невероятной переработки Тарас Бульба превращается в вождя, мыслителя, государственного деятеля, осознающего всю трагичность и эпохи в целом, и конкретных решений, которые ему приходится принимать. Причем делается все это Гоголем без деклараций, на нюансах, на легонько приоткрываемых дверках во второй, третий, двадцатый уровни внутреннего мира Тараса Бульбы, из которых возникает новая объемность восприятия мира в целом. И в этой новой объемности, в структуре и словах, которыми она создается, мы легко различаем языковские нотки, кое-где вплетающийся звук его поэзии. Как мелодию скрипки, играющей где-то далеко, в открытом окне пятого этажа за несколько кварталов, слабо различимую за городским шумом, но приводящую мир к единству и цельности, уравновешивающую и гармонизирующую весь этот шум.
Никто никого не «направляет и поддерживает», скорей надо говорить о принципе сообщающихся сосудов. Творец, когда надо, делится