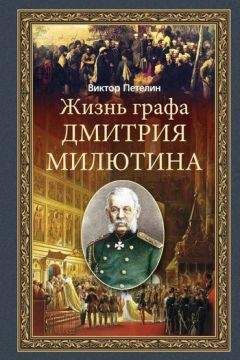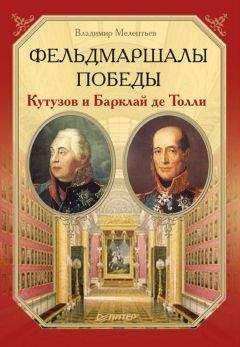Николай Милютин был явно недоволен таким положением и сердито писал Дмитрию Алексеевичу в конце марта 1864 года: «Дело в том, что я уличил их в явном подлоге (искажение журнала Совета), а он (т. е. Берг) защищает их совершенно неприличным образом. Черкасскому и мне очень трудно. Совет самым наглым образом водит графа Берга за нос, а он не хочет этого понять. Сегодня, впрочем, мы объяснились, и он, кажется, совсем сдался; но коварному старику доверять нельзя. Если не пойдет на лад, то принужден буду написать подробно Государю, хотя и не хотелось бы беспокоить его здешними дрязгами».
Но, увы, пришлось заниматься польскими «дрязгами» и императору Александру Второму. Берг и Платонов обратились к императору с ложным доносом, император выразил недовольство действиями Милютина и его комиссии. Николай Алексеевич писал Дмитрию Милютину: «Донесение Берга – чистая ложь, а между тем, не разобрав дела, мне делают почти официальное внушение (Платонов от имени императора обратился к Николаю Милютину и указал ему на торопливость в проведении реформ. – В.П.). Признаюсь, я не ожидал такой благодарности за семинедельную мучительную работу».
Получив это письмо, Дмитрий Милютин в какой уж раз задумался о реформах Александра Второго: вроде бы все делает хорошо, принимает правильные решения, но чаще всего исполнители этих решений никуда не годятся, завистливые, тупоумные, корыстные, как их ни назовешь, все будет в лад… 25 апреля Николай Милютин в порыве ярости и несдержанности приехал к императору и тут же был им принят. Николай все объяснил, ложь Берга и Платонова доказал, император поверил, даже пошутил, что эту слабость Берга он знает давно, вместо правдивости в отчетах он дает такую заведомую ложь, что все прочитавшие его документы начинают открыто насмехаться. Знал об этом и император, но питал к нему какую-то необъяснимую веру в его надежность, отмечал его заслуги наградами, за дело и без дела. И в данном случае поддержал вроде бы и Николая, но ничуть не осудил Берга и Платонова, дескать, это деловые противоречия, которые весьма часто бывают в таких сложных делах, как в Польше. Уж слишком мягок он по своему характеру, уступчив – вместо того чтобы прекратить рознь и борьбу наместника и Николая, он лишь пожурил их. «Этим чаще всего объясняется та шаткость, которая замечалась в ведении всех реформ его блестящего царствования», – думал Дмитрий Алексеевич, подводя итоги очередного производственного конфликта между историческими деятелями.
Истинным помощником Николаю Милютину был князь Черкасский, которого не волновали никакие интриги и тайные заговоры – устройство крестьянского быта в Польше было организовано, самоуправление входило в жизнь каждого уезда, рядовые поляки почувствовали себя свободными и в знак благодарности за эти преобразования прибыли в Петербург поблагодарить императора за оказанную милость.
Торжественные встречи состоялись, восстание пошло на убыль.
19 мая, во вторник, на Мытнинской площади объявили приговор Чернышевскому, семь лет каторжной работы и вечное поселение в Сибири, Сенат приговорил его к четырнадцати годам каторжных работ, но император утвердил лишь семь лет. Сводка данных о гражданской казни Чернышевского была опубликована в «Ведомостях с. – петербургской городской полиции» (1864. № 108). По мнению Дмитрия Милютина и многих его современников, в приговоре Сената не было достаточных оснований для столь тяжкого наказания. Да, Чернышевский был одним из главных сотрудников журнала «Современник», обративших внимание не только правительства, но и всего образованного общества: «В нем развивались по преимуществу материалистические и социалистические идеи, стремящиеся к отрицанию религии, нравственности и закона, так что правительство признало нужным прекратить на некоторое время издание сего журнала, а одновременно с сим открылись обстоятельства, которые указали правительству в Чернышевском одного из зловредных деятелей в отношении к государству». Чернышевский оказывал влияние на молодежь, был особенно вредным агитатором. А когда спросили, есть ли исторические документы, доказывающие его вину, оказалось, что таких документов просто нет. И тогда Сенату были представлены записки одного из сотрудников жандармского управления о литературной деятельности Чернышевского, после чего Сенат убедился: Чернышевский виновен. Но ведь все статьи были опубликованы в периодической печати, в сборниках, проверенных цензурой. Значит, виноват Валуев, министр внутренних дел, куратор цензуры? Сложные и противоречивые размышления порождал этот приговор Чернышевскому… Дмитрию Милютину было над чем подумать…
А главное было в том, что, когда возвели на эшафот Чернышевского и читали ему приговор, к ногам осужденного был брошен букет цветов какой-то М.П. Михаэлис, ее тут же арестовали, увели в жандармерию и выслали.
Машу Михаэлис в жандармерии спрашивали, почему она бросили букет цветов к ногам политического преступника. «Я в него влюблена», – ответила Маша. И по гостиным понеслось: «Маша Михаэлис влюблена в Чернышевского». «Это не нигилистка, – вспоминала Елена Андреевна Штакеншнейдер («горбунья с умным лицом», как сказал о ней Иван Гончаров), – это московская барышня, т. е. в ней больше сознания. Она вышла из общей колеи не во имя идей, а потому, что в ней ей было неудобно; пошлости, мерзости ее натура не хотела переносить. Смелости у нее хватило, на то она и барышня. Это одна из тех девушек, которые выходили в старину замуж за лакеев и кучеров или уходили в монастыри, делались ханжами. Замашки барства видны в ней во всем; воспитанная на рабстве, она рано выучилась презирать. Почувствовав себя выше среды, ей было нипочем бросить родовой быт свой и семью. Дворянская кровь самодуров праотцев не может не сказаться; «Захочу и сделаю», – шепчет она. Совсем другое дело нигилистка… В «Кладара-даче» напечатано, что Машу Михаэлис высекли за букет, и нарисовано, как секут; что за пошлость!»
Дмитрию Алексеевичу показалось, что Маша Михаэлис тоже нигилистка, тип которых широко распространился в обществе, особенно студенческом. Бывая в Медицинской академии на лекциях, он сначала увидел трех или четырех девушек, с остриженными волосами, в круглых шапочках с перышками, они смело брали студентов под руку и расхаживали по коридорам, курили, вели себя вызывающе. Потом через какое-то время Милютин узнал, что в Медицинской академии этих девушек стало более шестидесяти и они задавали тон и в учебе, и в поведении. А потом уходили по беременности, и толку от них никакого. И Милютин дал указание не пускать таких девушек на лекции академии. Немало Милютин слышал от профессиональных педагогов, что нигилисты требуют от общества максимальных прав – «дай им жизнь без всяких нравственных опор и верований!». Вот и допусти их до медицины, получится так же, как у Муравьева на Северо-Западе, ведь поляки требуют Польшу в границах 1772 года. Ох, трудно Муравьеву, столько в Петербурге у него противников…