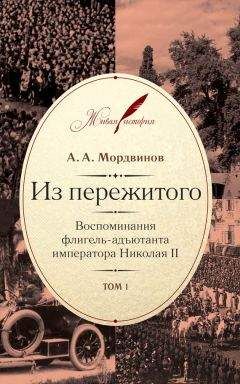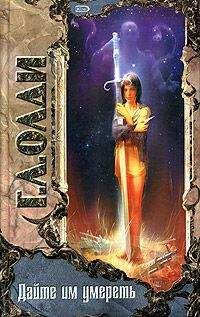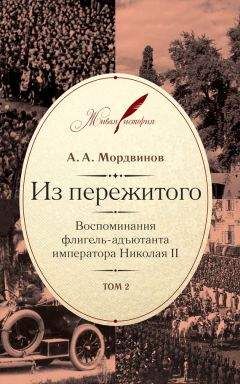Вспоминаю, насколько она всем нам, заключенным, казалась тогда неправдоподобной и, «безусловно, выдуманной» нашими тюремщиками-большевиками лишь для их собственного возвеличения.
И все же и это «невероятное» даже для того «невероятного» времени случилось с легкостью не менее поразительной, чем и у нас. И там было слишком мало веры в доблесть оставшихся верными войск, и совсем не было презрения к людям, изменившим присяге. И там ожидали много пользы от отречения!
В мае 1924 года великая княгиня Елизавета Маврикиевна получила письмо от принца Макса Баденского и очень просила меня его прочесть. Я знал немного этого последнего канцлера Германской империи, когда он, еще совсем молодым человеком, приезжал в Петербург и жил в доме великой княгини Ольги Александровны, ибо приходился близким родственником ее мужу принцу П. А. Ольденбурскому. На меня он произвел тогда прекрасное впечатление милого и отнюдь не поверхностного человека. Письмо его к великой княгине было очень длинное, искреннее, порою даже трогательное, с подробным объяснением его роли как канцлера при отречении императора. Была приложена и его известная брошюра по этому поводу. В своем письме принц Макс Баденский писал, что он сам отнюдь не хотел настаивать на отречении, но что его заставили это сделать, и он вынужден был тому подчиниться. Он очень долго колебался, и это-то промедление и было, по его мнению, единственной большой ошибкой, в которой он теперь кается. Подобное мнение также высказывали ему и другие, утверждая, что отречение якобы необходимо было вызвать намного раньше, а не тогда, когда уже взбунтовались войска. В таком случае можно было бы еще спасти династию и страну?!!
Удивительное по наивности утверждение, и еще более удивительное отношение к своему законному и любившему свою родину императору!!!
На южном берегу Англии мы провели тогда целый месяц, полный самых прелестных впечатлений об океане и английской деревне, и в начале июня 1914 года через Лондон и Остенде мы все вернулись домой. Моя семья проехала прямо к себе в Лашино, а я оставался из-за своей службы в городе.
Время при дворе было тогда самое тихое, и только приезд саксонского короля (Фридрих-Август III. – О. Б.), вызванный столетним юбилеем Лейпцигской битвы, внес некоторое разнообразие в монотонную жизнь Царского Села.
Король приехал в двадцатых числах июня и оставался у нас не более двух-трех дней. В честь его был назначен парад войскам Царскосельского гарнизона, на котором я был дежурным при Его Величестве.
Парад этот и выправка наших войск произвели на саксонцев, по их выражению, «незабываемое впечатление»214.
За обедом, поднимая бокал в честь короля, государь в искренних выражениях напомнил о долгом братстве по оружию между русскими и немцами.
В тот день мне пришлось провести почти все время в общении с немногочисленною свитою короля и играть по поручению гофмаршала роль гостеприимного хозяина.
Я вспоминаю, с какой искренностью говорили иностранные гости о нашей военной мощи и желании навсегда жить с нами в традиционной дружбе.
Помню и то, что они приглашали меня усиленно к себе, и я дал им обещание посетить их при первой же моей поездке в Саксонию.
Видимо, надвинувшаяся через три недели гроза так же искренно не чувствовалась ими, как и у нас. В те дни я познакомился и с только что прибывшим к нам и назначенным состоять при особе нашего государя генералом свиты германского императора Хелиусом.
Это был еще молодой человек, кавалерист, пользовавшийся, как уверяли, особым расположением Вильгельма II. Он был, кажется, командиром гвардейского гусарского полка, где император в молодости проходил свою службу в строю.
Мне почему-то он сразу понравился своим непринужденным, веселым товарищеским обращением, искренностью и отсутствием того типичного чопорного «прусского», что нам, русским, так особенно не нравится в германских офицерах.
Он мог бы, наверное, довольно хорошо исполнять у нас возложенные на него деликатные обязанности, так как в нем не чувствовалось ничего дипломатического, что только ухудшает и зачастую портит всякое положение. Но в том единственном случае именно в дни перед объявлением войны, когда ими действительно можно было полезно воспользоваться, о нем и не вспомнили.
Вероятно, таким не политиком, а лишь солдатом был и саксонский король. Как утверждают, он по возвращении домой настойчиво уговаривал императора Вильгельма всеми силами стараться жить в дружбе с Россией. Этого же добивался настойчиво, как говорят, и адмирал Тирпиц. Кроме них, кажется, никого не было в Германии на стороне русских.
Эта была моя последняя мирная и даже дружеская встреча с будущими врагами.
Приезд нашего тогдашнего друга и союзника президента Пуанкаре ожидался не ранее как через полторы недели; дел по опеке великого князя было мало, мое следующее дежурство при государе еще было далеко, и я уехал на это время к себе в деревню.
Помню те прекрасные жаркие дни, которые стояли в то время. Все было так мирно и красиво кругом. Никогда очарование родной деревней не охватывало меня с такой силой, как именно в эти предвоенные дни.
Помню и то, что в середине этого короткого пребывания, вечером 30 июня, возвращаясь с рыбной ловли со своего далекого озера, я неожиданно получил телеграмму из военно-походной канцелярии, призывавшую меня немедленно вернуться в Петербург, так как государю было угодно, чтобы я сопровождал Их Величества в Шхеры.
Отбытие из Петергофа было назначено уже утром через день, 2 июля215, и при отдаленности моего Лашина от железной дороги задача оказалась нелегкой. Надо было ехать более 75 верст на почтовых, всегда измученных лошадях и по ужасной, тряской, песчаной, часто болотистой дороге. Все же мне это как-то удалось, и за полчаса до прибытия государя я был уже на Петергофской императорской пристани.
По дороге в Шхеры мы зашли тогда в Кронштадт, чтобы посетить новый док и голландский крейсер «Seeland», на котором прибыл в Россию супруг нидерландской королевы принц Генрих, брат нашей великой княгини Марии Павловны.
Сам принц находился тогда в Москве, и государь осмотрел его корабль в его отсутствие.
Благодаря счастливой случайности через 16 лет принц Генрих посетил мой скромный домик на чужбине, и я провел с ним 2-3 дня в оживленных разговорах. Память его на лица, фамилии и события далекого прошлого меня поразила; с простотой и добродушием непередаваемыми он делился со мной мелочами и впечатлениями, вынесенными им из тогдашних дней нашей русской как придворной, так и общественной жизни. Он покинул Россию всего за несколько дней до начала войны. В его рассказах, во многом оживлявших мою память, было все то, что я уже знал и сам пережил. Но одного я тогда не знал – это то, что наши придворные толки о Распутине казались многим иностранным коронованным особам, в противовес донесениям их послов, очень преувеличенными. Сам принц Генрих совершенно не верил в силу влияния Распутина, и он, иностранец, более чутко понимал натуру нашего государя, чем большинство русских.