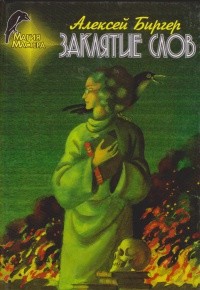есть до вечерни, начиная с полудня, все трактиры заперты. Ave Maria бывает около шести часов вечера. Вот, когда случалось, что Гоголю сильно захочется есть, он и стучит в двери. Ему обыкновенно отвечают: «Нельзя отпереть». Но Гоголь не слушается и говорит, что забыл платок, или табакерку, или что-нибудь другое. Ему отворяют, а он там уже остается и обедает…
Вот все, что могу на этот раз припомнить о нашей римской жизни. Общий характер бесед наших с Гоголем может обрисоваться из следующего воспоминания. Однажды мы собрались, по обыкновению, у Языкова. Языков, больной, молча, повесив голову и опустив ее почти на грудь, сидел в своих креслах; Иванов дремал, подперши голову руками; Гоголь лежал на одном диване, я полулежал на другом. Молчание продолжалось едва ли не с час времени. Гоголь первый прервал его: – «Вот, – говорит, – с нас можно сделать этюд воинов, спящих при гробе господнем». И после, когда уже нам казалось, что время расходиться, он всегда говаривал: – «Что, господа? не пора ли нам окончить нашу шумную беседу?..»
Сам Языков в письме брату Александру (16 февраля 1843 года) рассказывает так:
«…Нынешняя зима в Риме – пренегодная, такой, дескать, и старожилы здешние не запомнят. Холодно, сыро, мрачно, дожди проливные, ветры бурные. На прошлой неделе от излишества вод и ветров вечный Тибр вздулся, можно сказать, – вышел из себя, и затопил часть Рима так, что на некоторых улицах устраивалось водное сообщение. Теперь он успокоился, но дожди продолжаются и еще не дают надежды на приятный карнавал, которому быть послезавтра! До сих пор я никогда не видывал таких ливней, какие здесь: представь себе, что бывают целые дни, когда дождь льет не переставая ни на минуту, с утра до вечера, и льет как из ведра, как из ушата! Небо как тряпка. Воздух свищет, вода бьет в окна, по улице река течет, а в комнате сумерки! …
…Я сижу в Риме чрезвычайно уединенно, с Гоголем, который сильно занят и сильно работает; видаюсь во время обеда в 4 ч. п. п., после обеда дремлем вместе. Вечером обыкновенно приходит к нам трое русских (в числе их известный живописец Иванов, это все мое знакомство в Риме). Часа с два болтаем, а в 9 расходится компания… …Эта история повторяется у меня каждый день. В хорошую погоду езжу кататься и ходить за город! Осматривать же галереи я еще не начинал, жду укрепления ног…
…Гоголь ведет жизнь очень деятельную, пишет много; поутру, то есть до пяти часов пополудни, никто к нему не впускается ни в будни, ни в праздники, – это время все посвящено у него авторству, творческому уединению, своему делу, – а после обеда отдыхает у меня…» (кроме прочего, это письмо разоблачает очередную, мягко сказать, неточность, в воспоминаниях Смирновой-Россет, рассказывающей, что у Языкова уже в Риме ноги отнялись полностью и он мог проводить время лишь в сонной дремоте в своих креслах: вряд ли Языков обманывал семью, ей в утешение, что аж за город ходит гулять; да, к так называемым воспоминаниям Смирновой-Россет у исследователей и без того много претензий, и это замечание вносим а пропо, до общего котла.)
И – в дополнение картины – Гоголь Аксакову (старшему, Сергею Тимофеевичу), 18 марта 1843 года из Рима:
«Что теперь я полгода живу в Риме без денег, не получая ниоткуда, это, конечно, ничего. Случился Языков, и я мог у него занять. Но в другой раз это может случиться не в Риме: мне предстоят глухие уединения, дальние отлучения. Не теряйте этого из виду. Если не достанет и не случится к сроку денег, собирайте их хотя в виде милостыни. Я нищий и не стыжусь этого звания.»
Языков «ждет укрепления ног», но чувствует себя много лучше. К этому времени относится его очередная «Элегия» – короткая, но очень выразительная:
Поденщик, тяжело нагруженный дровами,
Идет по улице. Спокойными глазами
Я на него гляжу; он прежних дум моих
Печальных на душу мне больше не наводит;
А были дни – и век я не забуду их —
Я думал: боже мой! как он счастлив! он ходит!
А выручает он не только Гоголя. У Александра Иванова самый трудный период работы над «Явлением Христа народу». Он перебивается кое-как, слово «нищий» к нему можно отнести в намного большей степени, чем к Гоголю, еще только хлопочут о государственном пансионе для него, чтобы он мог спокойно работать над картиной. Еще не подключился Третьяков, посчитавший делом чести поддерживать такую значительную работу замечательного художника. Помогают поклонники таланта, друзья, бескорыстные меценаты. Языков – в числе первых.
За Александра Иванова Языков будет переживать постоянно, с его отъездом из Рима помощь Иванову не иссякнет. Он постоянно пишет Иванову. Например, через два года после отъезда из Рима, 19 мая 1845 года:
«…Получили ли Вы деньги, посланные мною к Вам еще в марте?»
А 21 ноября того же года:
«Меня нимало не удивляет самоотвержение Ваше в Ваших постоянных заботах о произведениях русских художников; я знаю, что его источник – чувство самое прекрасное и высокое: любовь к отечеству, но, ей-ей, мне бы хотелось, чтобы поскорее Вы кончили Вашу картину – забываемы есмь, да не забывайте и того, чего от вас требуют как от творческого таланта, а не только как от руководителя других, кто бы они и как бы они ни были.
О наглецах я уже не говорю – все они. . . . дети: это прозвище дал им царь Алексей Михайлович! Великий был царь! – истинно русский по одному этому слову!»
(Тут надо читать как раз то, что иногда хочется прочитать вместо замененного Языковым точками эпитета «дерптских» – помните,