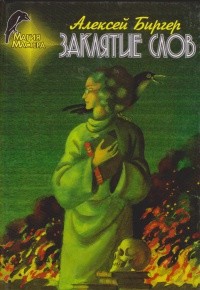люди.
Но что бросается в глаза: там, где среди «друзей» подразумевается Языков или речь идет о Языкове или адресатом достаточно легко узнается Языков, нет ни крупицы той «гордыни», из-за которой книгу частично не приняли идейно близкие Гоголю люди. Мысли текут естественно, просто, гармонично – опять-таки, с тем прекрасным простодушием, за которым открываются наибольшие глубины.
Встречаясь взглядом с немеркнущим сиянием голубых глаз Языкова, Гоголь обретает ту уравновешенность, в которой нет места ни гордыне, ни другим гибельным приманкам тьмы, нацеленной переломать и уничтожить гоголевский гений.
А что же выравнивалось в Языкове благодаря Гоголю?
Гоголь, как и многие, довольно настойчиво внушает Языкову, что тот должен идти до высот поэзии мысли, стать поэтом-мыслителем, чтобы во всем объеме раскрыть свое дарование. Но у Гоголя, как прежде у Ивана Киреевского, это звучит иначе, чем у тех, кто, призывая Языкова стать «поэтом мысли», а не только «хмеля», на деле прежде всего стремился втиснуть поэта в свои идейные рамки. Само общение с Гоголем помогает Языкову найти то направление поэзии мысли, движение в котором естественным образом отвечает особенностям его дара, его натуры. Начав с обретения живой разговорной интонации в разговорах на серьезные темы, пройдя через огромный этап работы в Ницце, когда осмысление Языковым цельности мира, в привете Рейну и в других стихотворениях, поднялось на новый уровень, Языков уже в Москве создает «Землетрясение»…
Гоголь – Языкову, 20 ноября (по европейскому стилю 2 декабря) 1844 года из Франкфурта:
«…Благодарю еще более бога за то, что желание сердца моего сбывается. Говоря это, я намекаю на одно стихотворение твое, ты, верно, сам догадываешься, что на «Землетрясение». Да послужит оно тебе проспектом вперед! Какое величие, простота и какая прелесть внушенной самим богом мысли! Оно, верно, произвело у нас впечатление на всех, несмотря на разность вкусов и мнений. Скажу тебе также, что Жуковский подобно мне был поражен им и признал его решительно лучшим русским стихотворением. Это слишком много, потому что он вообще был строг к тебе и, умея отдавать должное твоим стихам, нападал на главное, что после них (так он выражался), как после прекрасной музыки, все вслед за очаровавшими звуками унеслось и никакого определенного вида не имеет оставшееся впечатление. Он говорил часто (в чем отчасти и я был с ним согласен), что везде у тебя есть восторг, который никак не идет вперед, но стоит на одном месте, именно потому, что не получил определенного стремленья. Он никак и не думал, чтобы у тебя могло когда-либо это возникнуть (он не мастер прорицать), и на мои замечания, что все произойти может от душевных внутренних событий, слегка покачивал головой. И потому ты можешь себе представить, как мне радостно было его восхищение. Он несколько раз уже прочел с возрастающим удовольствием это стихотворение, которое я читаю почти всякий день. Видишь ли, как в общем крике массы, в этой строгой современной требовательности от поэтов есть что-то законное. Едва малейший ответ на это всеобщее алканье души – и уже вдруг все сопрягается, даже и то, что еще недавно бы не потряслось. Ради святого неба, перетряхни старину. Возьми картины из Библии или из коренной русской старины, но возьми таким образом, чтобы они пришлись именно к нашему веку, чтобы в нем или упрек или ободренье ему было. Сам бог тебе поможет, и сила, возникшая из твоего творенья, обратно изольется на тебя самого…»
Языков – Гоголю, 2 декабря 1844 года, из Москвы:
«…На днях был у меня М.С. Щепкин; о книгах, которых ты от него требуешь, пишет он к тебе сам, я же с моей стороны сделал в этом деле все, что мог: я показал ему строки твоего письма, до него касающиеся! Благодарю тебя за это знакомство; я буду стараться содержать его в должной силе и живости! Вообрази себе, что я не видывал Щепкина в «Ревизоре» – и, вероятно, не увижу его уже нигде, кроме моей квартиры. Я пишу стихи, расписываюсь – пишу стихи и духовные и мирские; прилагаю здесь образчик первого рода. Тебе кланяются Свербеевы: они тебя помнят и любят, как подобает, и чтут воспоминание о твоем бывании на их вечерах. Елагины тоже. У Ив. Киреевского идет работа, и все наши московские собратья ему содействуют…»
К этому письму Языков приложил свое «Подражание псалму» (свое переложение Первого псалма):
Блажен, кто мудрости высокой
Послушен сердцем и умом,
Кто при лампаде одинокой
И при сиянии дневном
Читает книгу ту святую,
Где явен Божеский закон:
Он не пойдет в беседу злую,
На путь греха не ступит он.
Ему не нужен пир разврата;
Он лишний гость на том пиру,
Где брат обманывает брата,
Сестра клевещет на сестру…
* * *
Таков он муж боголюбивый;
Всегда, во всех его делах,
Ему успех, а злочестивый…
Тот не таков; он словно прах!..
Но злочестивый прав не будет,
Он на суде не устоит,
Зане Господь не лестно судит
И беззаконного казнит.
Гоголь – Языкову, 14 (26 декабря) 1844 года, из Франкфурта:
«Пишу тебе и сие письмо под влиянием того же ощущения, произведенного стихотворением твоим «Землетрясение». Друг, собери в себе всю силу поэта, ибо ныне наступает его время. Бей в прошедшем настоящее, и тройною силою облечется твое слово; прошедшее выступит живее, настоящее объяснится яснее, а сам поэт, проникнутый значительностью своего дела, возлетит выше к тому источнику, откуда почерпается дух поэзии. Сатира теперь не подействует и не будет метка, но высокий упрек лирического поэта, уже опирающегося на вечный закон, попираемый от слепоты людьми, будет много значить. При всем видимом раз врате и сутолоке нашего времени, души видимо умягчены; какая-то тайная боязнь уже проникает сердце человека, самый страх и уныние, которому предаются, возводит в тонкую чувствительность нервы. Освежительное слово ободренья теперь много, много значит. И один только лирический поэт имеет теперь законное право как попрекнуть человека, так, с тем вместе, воздвигнуть дух в человеке. Но это так должно быть произведено, чтобы в самом ободренье был слышен упрек и в упреке ободренье. Ибо виноваты мы почти все…»