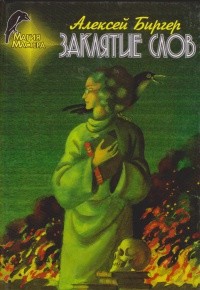круга, доказывая, что они лишь при Пушкине были чем-то, подпитываемые его жизненными соками, а без него они – лишь бледные тени! Он и о самом Языкове пишет разгромные разборы, доходящие порой до абсурда. Например, в стихотворении «Кубок» его возмущают последние строчки: «А в руке еще таится Жребий бренного стекла!» – хотя, вроде бы, всем понятно, что речь идет о студенстко-гусарском обычае бить об пол стеклянные кубки и бокалы после того, как вино из них выпито, особенно в честь возлюбленной. Возмущает его как бессмыслица и строчка из «Землетрясения», приведшая в такой восторг и Гоголя, и Жуковского, и многих других: «И ликам ангельским внемли!» Мол, ликам внимать нельзя, поучает он – и тут уж только и остается, что вспомнить издевательства Набокова над Чернышевским, который, написав, что в поэзии не должно быть таких бессмыслиц как «цветной звук», накликал на свою голову «звонко-синий час» Блока! Белинский, если вникнуть, столько «звонко-синих часов» на свою голову накликивает, что диву даешься, как, при всем к нему почтении, никто никогда даже вскользь об этом не говорил.
И совсем непристойно прокатился Белинский по милейшему – и гениальнейшему – Баратынскому, трагически умершему в Неаполе в 1844 году. И ведь пишет Белинский ярко, талантливо, с такими энергией и напором, что многие читатели просто не успевают подметить подтасовок и подмен понятий, проглатывают почти без наживки весь тот негатив, который скармливает им великий критик.
И на многих других Белинский зубы скалит – с нарастающей «одержимостью». Даже в сторону Гоголя так начинает щуриться, когда «похвала страшней и злей хулы». А ведь практически все – в том числе Языков – воспринимают любое выступление Белинского как манифест позиции всех западников.
Кроме того – за Белинским для многих отчетливо проступает фигура Некрасова, к которому относятся в то время не как к великому поэту, а как к «юному хищнику» нарождающегося железного поколения торгашей – хищнику, который у находящегося в почти безвыходном положении Плетнева торгует пушкинский «Современник», чтобы главное место в этой пушкинской святыне отдать Белинскому – и, естественно, хороший барыш получить, сделав издание предельно скандальным! И даже Герцен поглядывает на Некрасова как на беспринципного дельца, которому неважно, какие идеи проповедовать, лишь бы свой кусок на этом урвать – в свое время это ой как скажется!..
Так что не все так просто.
Гоголь, до которого и стихи и известия о битвах вокруг них доходят с некоторым опозданием, пишет Языкову, в конце января – начале февраля 1845 года:
«Сам бог внушил тебе прекрасные и чудные стихи «К ненашим». Душа твоя была орган, а бряцали по нем другие персты. Они еще лучше самого “Землетрясенья” и сильней всего, что у нас было писано доселе на Руси. Больше ничего не скажу покаместь и спешу послать к тебе только эти строки. Затем бог да хранит тебя для разума и для вразумления многих из нас.»
А Языков на этом не успокаивается. Его, что называется, занесло на повороте. Через две недели после стихотворения «К ненашим» он выдает стихотворение к Чаадаеву, которое сперва назвал совсем вызывающе: «Старому плешаку».
Вполне чужда тебе Россия,
Твоя родимая страна!
Её предания святыя
Ты ненавидишь все сполна.
Ты их отрёкся малодушно,
Ты лобызаешь туфлю пап, —
Почтенных предков сын ослушной,
Всего чужого гордый раб!
Своё ты всё презрел и выдал,
Но ты ещё не сокрушён;
Но ты стоишь, плешивый идол
Строптивых душ и слабых жён!
Ты цел ещё: тебе доныне
Венки плетёт большой наш свет,
Твоей презрительной гордыне
У нас находишь ты привет.
Как не смешно, как не обидно,
Не страшно нам тебя ласкать,
Когда изволишь ты бесстыдно
Свои хуленья изрыгать
На нас, на всё, что нам священно,
В чём наша Русь ещё жива.
Тебя мы слушаем смиренно;
Твои преступные слова
Мы осыпаем похвалами,
Друг другу их передаём
Странноприимными устами
И небрезгливым языком!
А ты тем выше, тем ты краше;
Тебе угоден этот срам,
Тебе любезно рабство наше.
О горе нам, о горе нам!
Трудно сказать, что в первую очередь сподвигло Языкова на этот выпад. Причин несколько. Во-первых, он часто верил друзьям на слово, как насчет достоинств и недостатков тех или иных произведений, так и насчет их идейного содержания. Ему достаточно было мнения Петра Киреевского (обиженного, как мы помним, на Чаадаева за то, что, по мнению Петра, Чаадаев «подставил» его брата), что в «Первом философическом письме» Россия оскорблена, оплевана и ноги об нее вытерли.
В чем-то здесь проявилась негативная сторона верности Языкова друзьям: нерассуждающей верности, лостойной уважения, но при этом не раз шедшей наперекор чувству и разуму. Он ставит прозу Бестужева-Марлинского выше «Героя нашего времени» Лермонтова, потому что Лермонтов, по сравнению с Марлинским, «слащав». Чуть позже он, верный Гоголю и верящий, что лучше Гоголя никто писать не может, верит на слово Плетневу, что так называемый новый гений Достоевский, «Бедных людей» которого возносят на щит Белинский и прочие, лишь жалкий эпигон Гоголя. «Скажи мне твое мнение о повести Достоевского: питерские критики щелкоперы прокричали ему большую похвалу; повесть эта довольно длинная – и мне не хотелось читать наудалую… – пишет Языков Гоголю 24 июля 1846 года – …Плетнев говорит, что Достоевский из числа твоих подражателей и что разница между тобою и им та же, что Карамзиным и кн. Шаликовым!! Чертовская разница!» Можно привести и много других примеров, когда мнение друзей (или вера в талант друзей) для Языкова значит порой больше даже его собственного вкуса и собственного разумения.
Достоевскому, скажем, тут досталось еще и за то, что его поднимал на щит другой лагерь. И не просто поднимал на щит, а противопоставлял. Свою роль в появлении несчастного стихотворения «К Чаадаеву» мог сыграть и «открывший» Достоевского «серый кардинал» Некрасов, после стихотворения «К ненашим» написавший стихотворный памфлет на Языкова «Послание к другу: из-за границы», причем в цитируемых «автором послания» поучениях и высказываниях «друга» неплохо узнается Гоголь, и общий смысл памфлета таков: у вас есть некто спившийся,