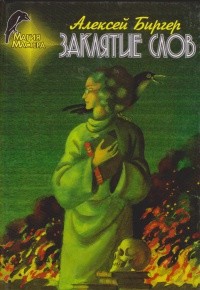только обещавший когда-то стать большим талантом (Языков), есть угасающие таланты (Гоголь, ets), а у нас – таланты расцветающие (Достоевский, ets) – и вообще, Языков до сих пор смотрит на Россию как из-за границы, слишком много времени проведя там, он разучился понимать русскую жизнь:
Друг, товарищ доброхотный!
Помня, чествуя, любя,
Кубок первый и почетный
Пью в чужбине за тебя!
. . . . . .
И за то, что Русь ты нашу
Любишь – речь к тебе держу,
И стихом тебя уважу,
И приязнью награжу.
Будь же вечно тем, что ныне:
Своебытно горд и прям,
Не кади чужой святыне,
Не мирволь своим врагам;
Не лукавствуя и пылко
Уважай родимый край:
Гордо мужествуй с бутылкой —
Ни на пядь не уступай!
. . . . . .
Ровно пьем; цветущ и весел,
Горделиво я сижу…
Он… глядишь – и нос повесил!
Взором радостным слежу,
Как с подскоком жидконогой
Немец мой – сутул, поджар —
Выйдет храбро, а дорогой
Бац да бац на тротуар…
Мог Языков после этого взорваться так, чтобы думать единственно о том, как бы для ответного удара выбрать «у врага» местечко побольнее – а уж потом соображать, что же она написал и пустил по рукам? Вполне мог.
Во-вторых, Языков, уже уверовавший, что наконец он стал поэтом-мыслителем, жутко обиделся на достаточно язвительную реплику Чаадаева. Чаадаев, которому стихотворение «К ненашим» понравилось и во многом он его приветствовал и был с ним согласен, сперва устно высказался, потом повторил (17 февраля 1845 года, уже ознакомившись с посланием против него самого и как бы подчеркивая, что его отношения к Языкову это не меняет) в записке графине Ростопчиной: «Вот стихи Языкова, которые я кладу у ваших ног… …и которые совершенно доказывают, что не обязательно иметь здравый смысл для сочинения самых прекрасных в мире стихов».
В-третьих, если вглядываться пристальнее, здесь можно говорить о неожиданном повороте почитания памяти Рылеева и боязни предать эту память…
Поясню.
К не раз упоминавшемуся святителю Филарету отношение у Языкова было сложное. Он мог бурчать про «немосковскую холодность» Филарета, и он же в восхищении спешит переслать Гоголю одно из чудесных Слов Филарета, «Слово по освящении Храма Явления Божией Матери Преподобному Сергию, устроенного над мощами преподобного Михея в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре (о духовном пустынножительстве), говорено 27 сентября 1842 года».
«…При всем том желал бы я узреть пустыню, которая обрела и стяжала сокровище, наследованное потом Лаврою. Кто покажет мне малый деревянный храм, на котором в первый раз наречено здесь имя Пресвятыя Троицы? Вошел бы я в него на всенощное бдение, когда в нем с треском и дымом горящая лучина светит чтению и пению, но сердца молящихся горят тише и яснее свещи, и пламень их досягает до неба, и Ангелы их восходят и нисходят в пламени их жертвы духовной. Отворите мне дверь тесной келлии, чтобы я мог вздохнуть ее воздухом, который трепетал от гласа молитв и воздыханий Преподобного Сергия, который орошен дождем слез его, в котором впечатлено столько глаголов духовных, пророчественных, чудодейственных. Дайте мне облобызать праг ее сеней, который истерт ногами святых и чрез который однажды переступили стопы Царицы Небесной…»
Филарет возглавил московскую кафедру в 1821 году, и уже его Пасхальное Слово на Пасху 1822 года стало первым из его великих Слов, громозвучно разнесшихся по всей России. Оно издавалось и переиздавалось, печаталось и перепечатывалось, вошло в культуру настолько, что всякий культурный человек должен был его знать, хотя бы ради поддержания разговора.
Для Рылеева и в целом для всего крыла декабристов, к которому он принадлежал, Филарет сразу стал как кость в горле. Такие люди, как Филарет, навзничь опрокидывали всю их пропаганду против «поповщины», настолько поворачивали общественное мнение, что победа над церковью и уничтожение ее становились все менее возможны. Повернуть Россию к древним национальным ценностям доблести и силы, к славянскому духу, не размягченному христианством, когда Филарет стольких людей умеет убедить в истине совсем иных ценностей?.. Если окончательной задачей было добраться и до последнего попа, чтобы его удавить, то Филарет в случае успеха переворота попал бы на правеж одним из первых.
Языков, в тон и в отклик Рылееву, шутит над попами, старается во всем следовать убеждениям своего наставника, но при этом все больше сдвигается в другую сторону. Как всегда, старается примирить непримиримое, и ход работы его подсознания можно описать приблизительно так: да, я в отличие от Рылеева стал глубоко православным, но и память Рылеева мне очень дорога, раз Рылеев не любил Филарета, то и я его не буду любить, так я одновременно сохраню верность и нынешним убеждениям, и памяти друга.
Дальше – больше. Филарет борется за перевод всей Библии на современный русский язык, чтобы каждому книга была доступна. В 1824 году ему удается осуществить первое издание Нового Завета на русском языке – с началом нового царствования эта инициатива прикрывается, выпуск дальнейших тиражей запрещен, народу вредно бесконтрольно читать Священное Писание, решает Святейший Синод, и перевод на русский язык Ветхого Завета Филарет увидел лишь в конце своей жизни, в царствование Александра II.
И он же коронует Николая I, палача, начавшего царствование с немилосердных расправ, и произносит, по мнению Языкова, льстивое и бесстыдное Слово во славу этого палача.
И он же ведет переписку с Пушкиным – и какую переписку!
И он же берется быть духовником Чаадаева, исповедует и причащает его. А Чаадаев переводит на французский, для популярных парижских журналов, несколько лучших Слов и Проповедей Филарета, за что оба крепко получают по шапке от синода: как смели отправить французам без визы и разрешения синода?
Чаадаев не раз подчеркивал, что при всех своих призывах брать у католиков лучшее, что они наработали за века, он навсегда останется православным и будет верен и предан своему духовному отцу Филарету.
Так что языковское «Ты лобызаешь туфлю пап…» – не просто уход от истины, а сознательное искажение истины, возможное только при сведении личных счетов.
Дальше – больше.
Гершензон правильно в целом отметил, что кардинальное различие между Чаадаевым и славянофилами в том, что для Чаадаева сначала христианство, а уж потом национальное, а для славянофилов