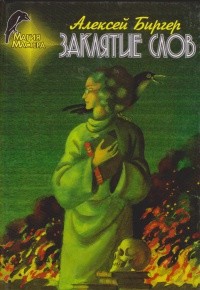встреча. И рука не поднимается ее анализировать, анатомировать, расчленять, хотя много страниц можно было бы написать о всех ее смыслах. Просто прочтите…
И эта защита маленьких людей больше и ярче всего говорит о Языкове, о его настроениях в последние годы жизни.
И последнее. Много раз мы видели, что в предсмертном стихотворении поэт полнее всего выражает себя, будто провидческий дар в нем включается, говорящий, что настало время сказать самое главное, за всю жизнь недосказанное, «выложиться по полной». Издаются даже сборники «Предсмертное стихотворение», Языковское переложение библейского сказания о Самсоне более чем достойно включения в такой сборник. И не только тем, что калека Языков внутренне сопоставляет себя с калекой Самсоном, что он тоже пострадал от своей Далилы. Такая же готовность, как в «Пловце», «встретить бурю и помужествовать с ней» – на сей раз бурю духовную.
На праздник стеклися в божницу Дагона
Народ и князья Филистимской земли,
Себе на потеху они – и Сампсона
В оковах туда привели,
И шумно ликуют. Душа в нем уныла,
Он думает думу: давно ли жила,
Кипела в нем дивная, страшная сила,
Израиля честь и хвала!
Давно ли, дрожа и бледнея, толпами
Враги перед ним повергались во прах,
И львиную пасть раздирал он руками,
Ворота носил на плечах!
Его соблазнили Далиды прекрасной
Коварные ласки, сверканье очей,
И пышное лоно, и звук любострастный
Пленительных женских речей;
В объятиях неги его усыпила
Далида и кудри остригла ему, —
Зане в них была его дивная сила,
Какой не дано никому!
И бога забыл он, и падшего взяли
Сампсона враги, и лишился очей,
И грозные руки ему заковали
В медяную тяжесть цепей.
Жестоко поруган и презрен, томился
В темнице и мельницу двигал Сампсон;
Но выросли кудри его, но смирился,
И богу покаялся он.
На праздник Дагона его из темницы
Враги привели, – и потеха он им!
И старый, и малый, и жены-блудницы,
Ликуя, смеются над ним.
Безумные! Бросьте свое ликованье!
Не смейтесь, смотрите, душа в нем кипит:
Несносно ему от врагов поруганье,
Он гибельно вам отомстит!
Незрячие очи он к небу возводит,
И зыблется грудь его, гневом полна;
Он слышит: бывалая сила в нем бродит,
Могучи его рамена.
«О, дай мне погибнуть с моими врагами!
Внемли, о мой боже, последней мольбе
Сампсона!»– И крепко схватил он руками
Столбы и позвал их к себе.
И вдруг оглянулись враги на Сампсона,
И страхом и трепетом обдало их,
И пала божница… и праздник Дагона
Под грудой развалин утих…
4
«Умирал он жутко, – пишет Вересаев. – Пожилой, сорокатрехлетний, изможденный страданиями человек ступает на порог смерти и думает – о чем? О похоронном обеде! Сам тщательно заказал обед, строго приказал, чтоб на нем было побольше вина. Умер. Началась похоронная оргия. Гости за полными стаканами творили поминки по покойнику, вспоминали его стихи:
И пьянствуйте об имени моем!
И пьянствовали самым добросовестным образом. Уже удалились в нижний этаж братья умершего и распорядители. Компания не расходилась. В ней главенствовали друг Пушкина, забубенный П. В. Нащокин, и беллетрист Н. Ф. Павлов…»
Вроде, все так – да не так. И подвела Вересаева не только приверженность придерживаться строго бытовых фактов и документов. В 1930-40-е годы, когда это писалось, даже для Вересаева многое в той эпохе оказалось будто ластиком подчищено. И церковь настолько отдалилась от общества, что редко кто способен был понять истинный смысл предсмертного вопроса Языкова: «Возможно ли воскресение души?» Спрашивать о воскресении души в сталинское время? Да вы смеетесь?
В начале книги я постарался описать последние часы Языкова сколько-то с «вересаевской» (лучше так сказать, чем «с общепринятой») точки зрения, – вернее, старался все время представлять картину с разных ракурсов, чтобы дать хоть какой-то намек на сложность и объемность. А теперь, когда для нас соединились начала и концы, давайте посмотрим, что же для Вересаева – да и для многих, начиная с девятнадцатого века, а уж во второй половине века двадцатого и подавно – оказалось будто ластиком подчищено, что разучились воспринимать и понимать. Посмотрим по тексту воспоминаний Дмитрия Николаевича Свербеева, из которых Вересаев многое перенес в свой очерк почти дословно.
«Возвращаюсь опять в оживленном воспоминании к этому милому мне поэту. […] …За несколько часов до смерти он заказал похоронный себе обед и требовал, чтобы на нем было много вина. Я был хозяином на этой тризне, и вспомнили мы один из стихов Языкова, где он завещевал своим друзьям:
И пьянствуйте о имени моем.
Похоронная оргия продолжалась слишком долго. Разогорченные и еще более разгоряченные гости не удалялись, несмотря на то, что и старший брат покойника, и я, распорядитель тризны, оба мы удалились в нижний этаж. Когда все было выпито, шумная беседа потребовала меня к себе и заставила посылать еще за вином и ромом, начала вариться жженка и продолжалась за полночь, когда я уже давно был у себя дома. Главными запевалами в этой попойке были Павел Нащокин, забубенный приятель Пушкина, и Николай Филиппович Павлов, Алексей Степанович Хомяков скромно при этом присутствовал. Языкова похоронили мы рядом с могилой умершего за год перед этим племянника его, Валуева, так много обещавшего и так рано, к 23-му году, скошенного смертью, а прах самого Валуева приютили к могиле Венелина, того Венелина, который первый из славянофилов призвал к жизни болгарский народ, предмет теперешних церковных распрей [воспоминания писались лет за пять до начала русско-турецкой войны