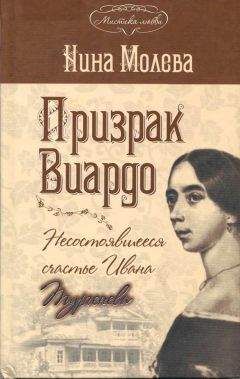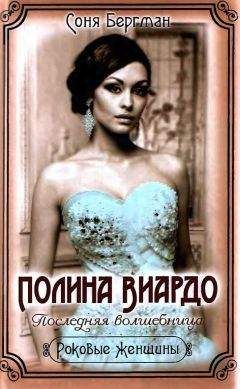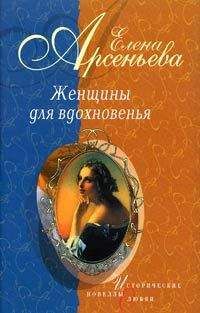В какую-то минуту поняла: все. Навсегда все. В первое время не могла понять: как это? Ничего не хочется. Никуда нет желания ехать. Отели. Курорты. Музеи. Горы. Парки… И Андрей… Покорный. Угодливый. Угадывавший каждое желание: как-ни-как врач! Никуда не ушел, не делся. Просто надоел: одни и те же разговоры, одни и те же расчеты. Ни разу дня не пропустила заплатить жалованье. Знала: все отмечал в книжечке с сафьяновым переплетом. Сафьян фиолетовый и в двух медных колечках карандашик. Все, что получал, непременно записывал. Порфирий доглядел, донес.
С самого начала не удивлялась. Чему дивиться при его нищенских-то доходах. Нарочно подачками лишними при себе придерживала. А теперь — теперь скучно стало. Так скучно, хоть волком вечерами вой. Утром, днем все какие-никакие занятия, хлопоты, а смеркаться начнет, чай ли вечерний на столе, ужин ли — одна. Всегда одна. До того дошло — покойного Сергея Николаевича вспомнила: хоть бы он сидел. Нет-нет да словом перекинулся. Глупость какую сморозил.
Иван! Ивана надобно вернуть в дом. Немедля. Сколько можно занятиями студенческими отговариваться.
Сын ведь. Сын! Раз у родительницы такая охота. Все толкуют, до чего хорош стал. Где-то. Для кого-то. Не для нее.
Когда в 1839 году на первое мая дом в Спасском сгорел, и не думал приехать. Поддержать. Утешить. Письмо написал. Вежливое. Пустое. Сразу видно, ничем его беда родительская не задела. А ведь сам только-только пожарного страху нахлебался. В Любек на пароходе поехал, а пароход и загорись. Значит, знал, каково это, и не приехал! Петербург ему милее родительского дома. Писал: в одно время со спасским пожаром Лермонтова видел, поэта у княгини Шаховской, а потом еще и в Петербургском благородном собрании.
Добилась, что приехал после университета. Не от сыновних чувств — от безденежья. На его просьбы отвечать не стала, примчался. Пожаловался, что за учебой стран других не повидал. Согласилась. Без Вены, Италии и впрямь нельзя. Умчался. Она к тому времени с Самотеки на Остоженку перебралась. Вроде и не заметил.
Такого удара Варвара Петровна никак не ожидала. Верила! Господи, как же верила! Тени сомнения не допускала: все станется по ее мысли. Она и Иван. Мать и сын. Жизнь вдвоем. Только вдвоем. Безо всяких там невест, тем паче супруг, даже легких увлечений. И так до конца дней. Лутовиново и Москва. О Петербурге и слышать не хотела. Чужой и ненавистный. Забыть не могла, как неловко смотрелась среди тамошних див и модниц. Муж мог, она — нет. И Ивану там нечего искать. Разве что вместе соберутся в какое путешествие. Снова Италия, Германия… Но лучше и без них. Вместе обеды, ужины. Может быть, гости. Но главное — беседы, беседы без конца. Раскрывать друг другу душу. Обмениваться впечатлениями. Он станет руководить ее чтением, подсказывать, что читать, слушать ее мысли. Это ли не счастье! И она его заслужила. Всей жизнью заслужила — Иван ведь еще ничего толком и не знает. Да и ни к чему ему знать. Прожито — пролито.
Хочет ли он — никогда не думала. Главное — она. Что из того, есть другой сын. Николай — не в счет. Глаза б его не видели со всей его семейкой. Сам решил свою судьбу — сам себя из ее сердца вычеркнул.
Живет, еле концы с концами сводит — Иван говорит. Что ж, Господня кара за непослушание, за самовольство. Вишь, захотелось на компаньоночке жениться. Не то чтобы развлечься, час провести — законным супругом стать.
Его дело. Нет у нее такого сына. И внуков нету.
Биби? Биби свое место знает. В холе да воле растет, и полно. Никогда девчонок не любила, а тут… Отец, доктор, было заикнулся в питомицы отдать. Выгнала. Одним махом выгнала. Всем доказала: молвы не боится, волю свою творить всегда будет. Семейка тургеневская пошипела и унялась. Но так по правде только норов свой потешила. Для души — пустота. Глупа. Слезлива. Что твоя приживалка. Одна. Совсем одна…
Снова оставались одни письма.
«Вот чем начинается день мой: я просыпаюсь в 8 часов, звоню.
Протираю глаза чаем с ромом, надеваю несмятый чепец, кофточку и беру молитвенник, читаю кафизму из Псалтыря. И чай готов, наливает в спальне Дуняшка; Псалтырь оставляется — первая чашка пьется. Между второй — всегда берутся карты, и гадаю, и ежели выйдет дама пик, — боже избави, особенно на сердце. Подается другая чашка; я обуваюсь, одеваю утренний костюм, молюсь богу и иду… Птицы уже меня дожидают, пищат…
Утро начинается. В гостиной отгорожен к одному окну кабинет, с зеленью, стол письменный стоит… Вот я беру Кантемира. Кантемиром называется деревянный порт-папье с ручкой. Итак, беру Кантемира, пишу вчерашнего дня журнал…
«Однако, пора одеваться», — говорит Дуняшка, не удивляясь, что барыня утирает слезы… Это — не редкость для них. Смех — это другое, это в диковинку. Пора… пора… прости, до часу. Вот и два часа. Я занималась в отцовском кабинете, называемом бариновым. Что я делала? — Вошла, позвонила. Вошел дежурный мальчик с красненькой ленточкой в петлице. — «Дворецкого!» — Вошел дворецкий и повар с провизией. Говядины на бульон и прочее. Побранила повара… Они вышли… Вошли мальчики. Кто что вчера делал? Митька, Васька Лобанов и Николашка Серебряков.
Рисовали… Каллиграфию… Читали… Вышли. Лобанов орлик мой! И улыбается — он не может больше — не знаю — чего? — Прежде бранила, наконец не замечаю. — Работы… Садовники печи топили, цветы поливали…
Столяр стол чистил, девушки то… и то. А вот и расходы, расходы в деревне: говядина, рыба, свечи, мыло, краски и прочее и прочие вздоры. Вот и пуза Серебрякова, а наконец и вся туша — вздыхает и опять вздыхает…
Вворачивает словечко против дядюшки… против управляющего… Я будто не замечаю, а на ус мотаю… Иное — правда, другое — вздор — из чего вывожу свои рассуждения».
Подруге признавалась. Редко, скупо, но совсем молчать не под силу было. Иван, все один Иван на уме.
Много ли хотела? Где там?! Всего-то, чтобы в письмах чувства свои описывал: что повидал, что при том подумал. Ему-то долго ли. Вон дядюшке Николаю Николаевичу сызмальства простыни целые исписывал, о ледоходе на Москве-реке повествовать изволил. Чудо какое, Господи прости! А тут горные вершины, озера, водопады, замки…
Мимоходом обронил: жаль, маменька, Николашу своего расположения лишили. Сами же им столько лет занимались. Он сказывал, какие уроки для него одного писали, как их спрашивали да похваливали.
Верно. Все верно. Николай — первенец. Ласковый. Послушный. Что ни прикажешь, все делает: не идет — летит. Было…
Его родила. Ивана. А там и Сергей. Убогий. От рождения видно было. На руки не стала брать. Приживалкам отдала. Из-за него в Спасском задерживаться не стала: вояж европейский придумала. Старшеньких двух с собой, а этого… Народу в Спасском много — досмотрят в случае чего. Сам же Сергей Николаевич противиться не стал. Поездке куда как обрадовался… Вот тогда-то и уроки для Николая придумывать стала. А Сергей Николаевич на дыбы: гувернер нужен. Настоящий. Образованный. Чтобы такого прямо из Европы в Спасское и привезти. Ничего не нашел. Дурь одна. Как всегда.