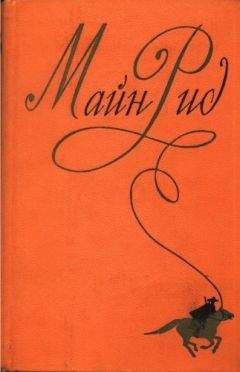— Что, земляк, сказал он, — вдаль смотришь? Зеленого прокурора ждешь?
Зеленый прокурор — это весна, время, когда некоторые решаются на побег. Они говорят, что их освобождает зеленый прокурор.
— Тебе-то нечего горевать, — сказал он, — три года — это совсем смех. И не срок вовсе, так, посмотреть, как в лагере живут.
— Для каждого свой срок велик, — ответил я известной лагерной истиной.
— Это верно, — согласился Степка. — А я вот, почитай что не был на свободе. Только, когда был в бегах. Самое большее год был в бегах — так все время на колесах, все время погоня без перерыва, а уж как увидел, что крышка, — вот была задача, чтоб арестовали где-нибудь в городе или на вокзале. А то ведь нашего брата, если ловят где вдали от людей, сразу стреляют. И потом пишут: при попытке к бегству.
Да, я слышал, как это бывает. В ивдельских лагерях за бежавшими охотились на вертолетах, расстреливали и труп бросали возле лагерных ворот на денек — в назидание другим. В Краслаге этого не делали, но уж в живых, конечно, редко оставляли.
— А что видел? — продолжал Степка. — Ничего. Я, знаешь, до сих пор телевизора не видел.
— Как так? — удивился я.
— А так, — сказал Степка. — Где его увидишь? В тюрьме? В лагере?
Степка ушел. По дороге в барак я столкнулся с Мишей.
— Ты со Степкой не очень-то разговаривай, — тихо сказал Миша. — Он сейчас в опале.
Миша рассказал, что Степка в первые дни, как пришел, начал терроризировать весь лагерь, и все шло у него хорошо, как и должно быть у такого матерого бандита, пока он не натолкнулся на Варяга. Варяг обыграл его в карты; Степка попросил отложить на день оплату, так как денег у него по случаю не оказалось. Варяг на глазах у всех стал избивать его. Зэки пришли в ужас: при подобных драках неизбежна резня в лагерном масштабе. Сбегаются банды того и другого, вспоминают старые обиды, и тут уж в стороне никто остаться не может, ибо, врываясь в барак, вырезают всех подряд — на всякий случай, чтобы быть спокойным. Но уж Степка был не тот, что в молодые годы, да к тому же Варяг был ему не по зубам. Степка побежал искать защиту у администрации — поступок, самый постыдный, который может совершить уважающий себя зэк. По его жалобе и забрали снова Варяга там, в жестянке.
— Степка все время уговаривает хозяина отправить его на другую зону, — сказал Миша. — Ведь он знает, что Варяг выйдет через полгода из БУРа. Представляешь, пробыл Варяг в БУРе полгода, пару неделек походил и снова БУР на полгода. Выйдет — причешет Степку. Впрочем, ну их всех к дьяволу, пойдем, я тебе кое-что покажу.
У Миши в секции дым стоял коромыслом: в углу веселилась блатная компания. Зэки пили чифир и курили махорку.
— У меня тут тетрадка есть, — сказал Миша, — я в нее выписывал из книг, что понравится. Погоди, я сейчас найду.
Он стал рыться в тумбочке. В углу кто-то идиотски бодрым голосом веселил компанию своими похождениями на воле.
— Ну, сказал я ей, что я хирург…
— Ха-ха-ха! — раскатилась компания.
— Хирург!.. — в восторге орал какой-то старый зэк, раззевая беззубый рот. — С ножом под мостом операции делаем. Хиру-у-ург, ха-ха-ха!
— Ну законно, — продолжал зэк. — Завел я ее в нашу малину, в сарай. А там жиган сидел со своей биксой. Ну, он сразу дверь на лом закрыл. Девка, конечно, испугалась. Я ей говорю: ложись, стерва. Легла. Я на нее. А она не подмахивает. Я слезаю, беру молоток и трах ей по зубам. Выбил зубы. А жиган орет: порви ей все, суке, чтоб знала. Ну, закрыла она рот платком. Я залез на нее, а она ревет, да подмахивает. Фашист, говорит. Ты — фашист.
— У-у-у, — раскатилась братва от смеха. — Фа-а-а-ашист, ха-ха-ха! А ты ее в это время… ха-ха-ха, фаши-и-и-ст!
— Вот послушай стих, — сказал Миша, который уже давно не обращал внимания на лагерный треп —
В голосах нескошенного луга
Слышу я знакомый сердцу зов.
Ты зовешь меня, моя подруга,
Погрустить у сонных берегов.
— Солнышкин любил Есенина, — сказал Миша. — Я знаю наизусть много стихов, так я ему читал. Ну он сам-то человек образованный. Замучили его совсем. Сначала лагерь, потом в ссылку сослали. Когда подошел конец ссылке, вызвали его в райком и стали спрашивать, не изменил ли он своих взглядов. Сеня говорить отказался. Тогда секретарь парторганизации спросил его, как он смотрит на героическую борьбу Анжелы Дейвис, которая объявила голодовку и пьет только соки. Солнышкин вскипел и сказал, что он ни разу в жизни соков не пил и рад бы до конца дней своих держать голодовку, как Анжела Дейвис. «А вот если бы, — сказал он, — вас с этой Анжелой усадить за лагерный стол да заставить есть лагерную вонючую уху, в которой плавают сваренные черви, а после бы вы с непривычки блевали от отвращения, — вот тогда бы я с вами обсудил те вопросы, которые вас интересуют». Они нашли какого-то забитого зэка на ссылке, и тот показал на суде, будто Солнышкин что-то говорил против советской власти. Так, формальность была одна. Три года по 190–1. Потом, видимо, решили его совсем на свободу не выпускать. Повезли в Томскую тюремную больницу, где врачи должны были дать заключение, что он психически ненормальный. Врачи такое заключение дать отказались. Тогда на них из КГБ надавили, его снова повезли в больницу, и тут уж они такое заключение дали. Его увезли — и больше я о нем не слышал.
Мише оставалось сидеть еще два года. Был он настоящим бедолагой, каких миллионы в России. К уголовному миру никакого отношения не имел. Просто бросился разнимать приятеля, который сцепился в гостинице с кем-то, имеющим хорошие партийные связи. Срок никакой Мише не грозил, но на суде, увидев, что приятеля пытаются нагло обвинить в том, чего он не совершал, Миша возмутился и сказал, что судьи по-сталински хотят крови. За это ему дали пять лет усиленного режима. Будучи в лагере, он раскрутился[6] на ерунде. Начальник лагеря сорвал с него шапку и гаркнул: «Снимать надо шапку, когда начальство мимо проходит!» И в самом деле, согласно правилам перед начальством положено шапку снимать. Но Миша вырвал у хозяина шапку из рук и плюнул ему в лицо. И не избежать бы ему большого срока, но на счастье в лагере поднялся бунт. Резали тех, кто сотрудничал с администрацией, убили несколько надзирателей, потом стали добивать друг друга. Начальника лагеря, конечно, обвинили в плохой постановке воспитательной работы, а Мише добавили всего год и отправили на строгий режим.
— Вот жизнь, — сказал он. — Война, разруха. Шестнадцати лет увезли меня силой из деревни в ремесленное, в город — с тех пор я мамы не видел. Семь лет во флоте. Шесть — в лагерях. Ха-ха-ха! Только смеяться можно над такой житухой.