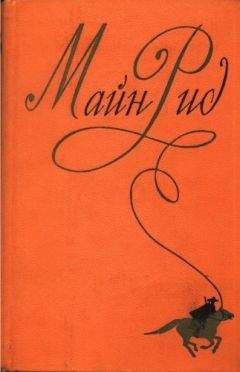— Если б я не погнался за третьим, — рассказывал Максимыч, — я бы получил не более восьми. Но тут налицо месть, то есть низменные побуждения, а не самооборона. Впрочем, жребия не избежать: кто раз побывал в лагере, тот все равно вернется.
— Почему же, Максимыч? — спросил я. — Ведь жил же ты двадцать лет на свободе, как нормальный человек. У тебя-то нет ничего общего с остальными.
— Не-е-ет, — протянул Максимыч, — если бы я не сидел раньше, то и сейчас не сел бы. Уже человек попорченный, ничего с ним не сделать. Вопрос только, рано или поздно сядешь. Если бы я не сидел раньше, то и повел бы себя иначе; закричал бы, позвал на помощь, побежал бы в милицию, потом обратился бы в суд, ну, словом, сделал бы все как полагается. Я же поступил по-лагерному: за незаслуженную обиду — смерть. Да и третьему послал из лагеря, через тех, что освобождаются, записочку, что вот сбегу скоро и его прикончу. Так он сразу же свой дом продал и смылся оттуда, его сейчас согнем по всей матушке-России не найти.
Максимыч пошуровал кочергой в печке. Зэки неподвижно и завороженно наблюдали за пламенем, молча раскуривая самокрутки.
— А вот Варяг, — послышался вдруг чей-то голос, — выйдет: быть резне в лагере. Если Степка еще здесь будет.
— Варяг! — отозвался кто-то презрительно. — Когда он выйдет из БУРа, я ему рожу бить буду. Я давно знаю эту падлу ссученную.
В мастерской наступила мелодраматическая тишина. Потом все зашевелились и потихоньку стали уходить. Никому не хотелось быть свидетелем такого разговора. Я остался, не в силах выйти на лютый мороз. Остался и тот, кто это сказал, — зэк, по кличке Татарин, пришедший этапом с особого режима. Высокий, худой, с довольно правильными чертами лица, был он очень подвижной, необузданного нрава, а когда злился, то в его больших черных, чуть-чуть раскосых глазах металось пламя бешенства и беспредельной азиатской жестокости. Знавшие его раньше говорили, что он не терпел в лагерях никакой власти.
— Ты сколько лет сидишь? — спросил я Татарина.
Тот махнул рукой:
— Всю жизнь сижу. Не хочется и говорить, сколько — вся дурость сразу же видна.
— Не надоело?
— Как-то привык. Как будто так и надо. Другой жизни не представляю себе. Только вот мать жалко — извелась вся.
Татарин рассказал, как был на свидании с матерью полгода назад. Мать, не видавшая его около пяти лет, утверждала, что он совсем не изменился. Тогда Татарин показал матери два изуродованных пальца на левой руке, ему отрезало их по первому суставу циркульной пилой. Мать долго целовала обрубки, плакала и говорила, что жизнь и душа у него исковерканы больше, чем рука, а все равно ждет его семья дома уже с детских лет и дождаться не может.
— Как уж есть, — сказал Татарин и вышел.
— Ну Степке повезло, — изрек Макарыч. — Теперь Татарин будет с ним пластаться. Тут дело серьезное, как бы всем в лагерную мясорубку не попасть. Впрочем, еще два месяца, пока Варяг выйдет из БУРа, а там видно будет.
* * *
Без того беспокойный, короткий лагерный сон был прерван сегодня дракой. Какой-то новенький, с этапа, привязался к Татарину. Тому ужасно не хотелось вставать и бить дурака, и он стал его упрашивать спокойно лечь и назавтра во всем разобраться. Но тот не унимался, и тогда Татарин побежал из барака. Блатной погнался за ним, решив, что Татарин испугался. А там Татарин начал наотмашь бить его доской. Зэки повскакали с коек. Миша забежал ко мне.
— Иди спать, Миша, — сказал я, — все уляжется.
— Еще чего, — проворчал Миша. — Мало ли что случится? Тут повальная резня может начаться каждую секунду. Нет, не уйду, пока все не кончится.
Вначале блатной кричал, потом потерял сознание и сквозь открытую дверь было слышно тяжелое дыхание Татарина и глухие, мокрые шлепки доски о безжизненное тело. Зэки оттащили Татарина, а когда пришли надзиратели, все уже лежали на койках и храпели. Надзиратель осветил лицо Татарина фонарем, но тот лежал в глубоком сне до смерти уставшего человека, рот его был открыт, щеки опали, грудь равномерно и спокойно вздымалась в такт сиплым клокочущим вздохам, а ресницы даже не дрогнули, когда на них упал резкий свет фонаря. Брать было некого, доносчики боялись стучать на Татарина. Но заснуть ночью уже не удалось, и утром, перед выходом на работу, хотелось спать.
А развод, как всегда, затягивался. Заключенные кутались в негреющие бушлаты на пронизывающем весеннем ветру, запихивали ладони в рукава. Только Миша стоял, весь нараспашку, вызывающе улыбаясь в лицо офицеру, производившему развод.
— Капитан, — говорил он, ехидно подмигивая, — к кому обращена эта надпись, к зэкам или к администрации?
Миша указал на агитационный плакат, на котором было написано: «Пусть земля горит под ногами у тех, кто мешает нам жить!». Имелись в виду, конечно, те, кто не стал на путь исправления. Капитан раскрыл рот и так и застыл, не зная, что ответить, зло глядя на Мишу оловянными глазами.
— Ха-ха-ха, — засмеялся довольный Миша, размахивая рукавами грязной, порванной в лохмотья телогрейки. — Может, ты снимешь меня с работы, капитан, и отпустишь в барак? Ведь работы нет сегодня, так что толку быть в рабочей зоне?
— Давай, давай, — отмахивался от него капитан, — иди на работу. Нечего здесь бездельничать. Здесь тебе не курорт.
— Капитан, — не унимался Миша, — посмотри на меня. Я худ, я бледен, я весь оборван. Разве ты не видишь, что я исправился?
Зэки захохотали, и капитан заорал во всю мочь:
— Вон, вон отсюда! В строй!
— Капитан, — продолжал Миша, не обращая внимания на грозный тон, — ты же видишь, мы люди нового времени. Посмотри, разве я не человек нового времени?
Зэки веселились. Я потянул его за рукав.
— Кончай, Миша, а то в изолятор утянут.
Миша ненадолго смолк, разглядывая плакаты на заборе вокруг БУРа. Плакаты сообщали, сколько страна произвела в этом году пар обуви, сколько сдано мяса, молока и яиц в закрома государства по всем республикам. Наглядная агитация объединялась сверху общим заголовком: «От Москвы до самых до окраин». Мишу вдруг осенило:
— Гляди-ка на БУРе-то что написано: «От Москвы до самых до окраин». Действительно, кого только там не встретишь!
— Прекратить! — завизжал капитан. — Сейчас в изолятор пойдешь! Где нарядчик? Почему не начинают развод? А ну, живо!
Зэки благодарно похлопали Мишу по плечу.
— Зачем ты, Миша, — стал я его корить в малярке.
Тот махнул рукой:
— Все равно меня будут морить до самой смерти. А сделать я им ничего не могу. Так хоть скажу открыто что хочу, пусть слышат. Но придет время на них, придет. Может, и не при нашей жизни.