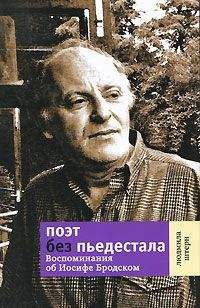Вот я и строчила: себе, тебе, никому. Пока писала, собственной жизнью не жила. Голос мертвецу, рупор безгласому. Парочка еще та! Был, правда, прецедент, хоть и не до такой степени: Моисей – Аарон.
Есть предел опыта и совершенствования. Формула перфекционизма: лучшая книга написана покойником. О самом себе. С моей помощью.
С тех пор ни слова не добавила, кроме этого постскриптума, который, может, и лишний, но и без него как-то странно, так все круто перевернулось окрест – в одночасье. Точнее – десять минут, которые изменили весь мир. Делать вид, что ничего не произошло, пока я мурыжила рукопись, не решаясь пустить ее в свет? Решиться написать и не решаться напечатать – экий бред! Пропустила срок родов – что если мертворожденный?
Телегу ставлю впереди лошади.
Дня не было без тебя, когда писала. Не пойму только – ты ли являлся мне из водной могилы или я спускалась к тебе туда из жизни? Зря, наверное, разглагольствую, сам обо всем там знаешь. Не можешь не знать. От такого все мертвяки должны были проснуться, даже самые древние и тухлые. Да и ты уже не свежак – 20 лет как на том свете.
Смерть мгновенно сводит на нет возрастную, вековую, тысячелетнюю разницу – ты теперь ровесник Шекспира, Гомера, царя Соломона, царицы Нефертити.
Дыра в пейзаже, сказал бы ты. Дыра и есть, но покрупней той, которую оставил ты, переселившись в новую среду. Каверны в пейзаже, в психике, в самой цивилизации – опасные пустоты. Не поверишь: все давно уже привыкли, как будто не было и в помине голубых столбов.
С тех пор пошло-поехало: на войне как на войне, лучшей мишени, чем Нью-Йорк, не придумаешь, город желтого дьявола, сivitas diabolica, город Апокалипсиса. Так и есть. Не зря он тебе снился вставший на дыбы, как жуткий фалл-небоскреб. Бактерии и химию на нас уже испытывали, зато ядерный кейс удалось обезвредить в последний момент, за несколько минут до взрыва, хотя его владелец – пейсик в кипе – не вызывал подозрений (оказался араб). Атомная война прошла, слава богу, стороной и была кратковременной: между Индией и Пакистаном, пока обе стороны не израсходовали свой ядерный арсенал. Нью-йоркские бейсменты превратились в бомбоубежища (ты бы сказал – уебища), город небоскребов ушел под землю, в подполье, подземные лифты мчат нас к центру земли, мы живем теперь в катакомбах, как первые христиане. По всему немусульманскому свету муслимы загнаны в гетто, охрана извне и изнутри.
Тебя, понятно, занимает, чтó в городе, который ты переименовал в Санкт-Ленинград? Думаешь, все то же? Жалкие попытки реанимации, имперские потуги, местечковое прозябание? Чем провинциальнее, тем претенциознее; соответственно – наоборот, да? (Твое словечко, твой говорок.) Как бы не так! Не поверишь: Санкт-Петербург ныне – столица полицейско-демократической России. Бред? Самая что ни на есть реальность. Сразу после взрыва Кремля и перенесли. Бывшая столица империи стала столицей бывшей империи. Небольшая рокировка, а какая разница! Столица – на самом краю слаборазвитой державы, на расстоянии танкового марша от НАТО (из Эстонии, стратегического плацдарма этой организации). Возрождение авторитаризма прекрасно уживается с дальнейшим распадом страны и превращением ее в политического маргинала. Сбылась шутка времен застоя: Питер – столица русской провинции. Там уже вышел твой целлофанированный 12-томник, что вряд ли тебе в кайф, коли ты даже прижизненному четырехтомнику всячески противился, школьников заставляют вызубривать твои стихи, а на Васильевском острове, где обещал умереть – «Где живет, не знаю, а умирать ходит на Васильевский остров», ха-ха! – установлен, несмотря на протесты березофилов, памятник последнему русскому поэту – увы, в бронзе, а не в любимом тобой мраморе, который застрял у тебя в аорте: ты бы себя не узнал в этом вдохновенном пиите. То есть сама идея памятника как таковая пришлась бы тебе по душе, в которой ты давно уже воздвиг себе рукотворный. Что памятник, когда даже филателистские мечтания тебя одолевали, так и говорил: «Боюсь, советской марки с моей жидовской мордочкой я не дождусь». Пока еще нет, но будет, будет, дождешься непременно, к твоему столетию, например, до которого лично я, само собой, не доживу. Ты давно уже перестал быть самим собой, впал в зависимость от мифа, который сам о себе создал, а потом другие – с твоих слов либо оные опровергая. Тем более посмертно: не принадлежишь больше самому себе, являясь собственностью тех, кто творит твой образ – согласно твоим завещательным указаниям или наперекор тебе.
А идею памятника успел оформить словесно, сработав свой собственный за пару месяцев до смерти, по образчику exegi monumentum, но, выбрав в качестве последнего вовсе не стих. Хулиганский стишок получился – если материализовать его образ в бронзу, вышел бы памятник твоему пенису в боевой изготовке. Ты этого хотел?
– Почему нет? Идеократии – любой – предпочту фаллократию.
Помнишь, на Большом канале перед палаццо Пегги, где всякой дряни навалом, эквестриан стоит – у всадника хер столбом. Это у него на Венецию стоит. Знак любви, если хочешь. Куда там твоему Шемяке с его всадником-импотентом!
Мой работодатель, у которого я была, можно сказать, штатным фотографом, тебе покоя не давал. Ревность? Подозрение в антисемитизме? А конный автопортрет, который установлен теперь на его могиле в Клавераке, – классный, пусть его член и лежит устало на лошадиной спине. Отработал свое. Или у мертвецов тоже стоит? Тебе там виднее.
Как ты не догадался дать точное описание собственного памятника – этакая памятка скульптору и архитектору! Да хоть бы намек!
Или твой еxegi monumentum и был намек?
Не прислушались.
Ты все предпочитал делать сам – одних посмертных распоряжений и запретов оставил тыщу. Чуть не спалил дотла Венецию в день своей смерти – как еще объяснить пожар в Ля Фениче, где ты должен был выступать через пару недель? С тебя станет. Даже Остров мертвецов, где тебе теперь лежать до скончания веков, выбрал сам. Может, тот всадник на канале ты и есть? У тебя на Венецию и стоял, как на бабу.
Лучше бы на бабу стоял, как на Венецию.
Пусть памятник в Питере не тот, который ты себе сам бы поставил, все равно поздравляю: многоуважаемый книжный шкап в стране, где книг больше не читают. Стихов – тем паче. А где их читают? Нет спроса – нет предложения. Как Матросов – амбразуру, ты закрыл собой книгу русской поэзии. Последняя ее страница, эпилог, занавес, тишина.
Дальнейшее – молчание. Даже бродскописцы поутихли, заглохла бродскоголосица, ты бы сказал, мир онемел без поэзии: что лес без птиц.
Книги вышли из употребления, исчезло с лица земли племя читателей, книгочей – такой же раритет, как шпагоглотатель. Одни только муслимы перечитывают свою Книгу, которая старше языка, на котором написана, и оригинал хранится на Небесах.


![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)