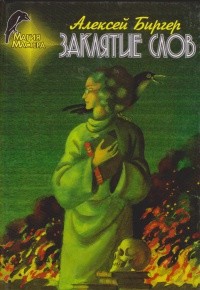Можно сказать, «Водопадом» тычет им в нос.
Ода без прямого призыва к действию, без гражданственной (общественно-политической) заряженности – это для них как раз «дифирамб» или «гимн».
Но ведь именно так и пишет Языков! В этом понимании, у него «од» нет вообще, есть только «дифирамбы» или «гимны». Он, в отличие от архаистов, целиком и полностью (вплоть до «Землетрясения») осваивает духовную часть наследия Державина, и в этом – его резкий, резчайший, настолько непримиримый, насколько это слово может быть употреблено по отношению к Языкову, раскол с ними.
И Гоголь пеняет Языкову, что тот к осознанию истинной природы своего дара шел кружным путем, через Пушкина, а не прямым путем, как мог бы пройти. Но в условиях того времени иначе было нельзя – и не только для Языкова.
Пушкин отвергает планирование там, где целью поэзии перестает быть «сама поэзия», где план затевается и составляется ради того, чтобы включить на полную мощь «внепоэтический смысловой ряд», «витийство» или «ораторство», превращая поэзию лишь в подручное средство, творения или разрушения, все равно, рассматривай ее как кузнечный молот или мортиру, как цементную смесь или динамит, и то, и другое равно унизительно. Поэзии отводится второстепенная роль служанки, которую можно уволить и заменить другой. Театром, площадным представлением… кино, телевидением, интернетом, лишь бы сработало. Для него-то наоборот, все открытые и еще не открытые психологические и технические средства воздействия на человека – лишь подручные средства для поэзии, которая все и вся использует, чтобы привести к гармонии в душе.
Поэтому не только можно, но и нужно составлять план там, где поэзия благодаря ему получит твердую опору. Для Данте невозможно было не иметь плана «Ада», чтобы совершить свой грандиозный труд. Пушкин мог записывать прозой схемы и наброски целых кусков «Полтавы» и других произведений, чтобы вернуться к ним, когда выстроится целое. А вот когда все переворачивается с ног на голову и поэзия подверстывается под план – тогда и возникают «планщики» и потеря поэтического слова ради недостойных поэзии целей.
И нащупывать и прорабатывать такие планы, которые не «исключают спокойствия, необходимого условия прекрасного», которые «предполагают силу ума, располагающие части в их отношении к целому», чтобы быть «в силе произвесть истинное великое совершенство» – действительно требует тяжелейшего и постоянного труда. Того трудолюбия, которое и в Языкове всегда присутствовало – мы видели, как он, при внешней лености, не давал себе спуску, когда дело касалось творческих задач. И тут для него не обходилось без спора с Пушкиным, ну надо было ему поспорить и не согласиться, чтобы получить энергию для движения дальше. Что поделать, таким он был. А что порой это приводило к обращению в ничто слишком многих усилий (ливонские поэмы, во многих отношениях «Жар-птица», еще можно добавить…) – когда он все-таки скрепя сердце пытался «поэзию» подчинить «плану», так без потерь и без бесплодных усилий в ложном направлении не обходилось ни у кого, у самых знаменитых поэтов и ученых… Многим великим открытиям предшествовали годы бесплодных, тупиковых экспериментов, и тысячи примеров вы сами припомните.
2. Во многом препятствием на пути поэтического развития Языкова стало еще одно следствие его добродушного характера: личная, семейная «ушибленность» ужасами пугачевского восстания. Трудно забыть – да они (братья Языковы и вся семья в целом) никогда и не забывали, что живут прямо на том месте, где живьем был сожжен их дядюшка. Замечание Александра Михайловича, что они передали Пушкину при посиделке в Языково огромное количество материалов по пугачевскому бунту, почему-то никем никогда не исследовалось – а в данном случае не доверять Александру Михайловичу нельзя. Раз больше нигде эти материалы не обнародовались и никому не показывались – значит, они были для сугубо внутреннего употребления. Слишком болезненным, получалось, выносить их на люди, только для Пушкина было сделано исключение. И Пушкин это понял: всё сказал братьям Языковым, поселив Гриневых в их имении.
Отсюда, Языков становится не «славянофилом по родству», как ехидно бросил Герцен – он с радостью и охотой примыкает к тому крылу славянофильства, которое рассматривает русский народ как «народ-богоносец» и твердо верит, что никакие ужасы в дальнейшей истории России больше невозможны, народ перековался, стал носителем высшей, мирной правды. Для Языкова невозможны ни предупреждения Чаадаева, что без общего покаяния (требующего тщательной и кропотливой работы с каждым человеком и внутри каждого человека) Россия, в кару за века «отречения», может ухнуть в такой кровавый ужас, который затмит ужасы французской революции (что не отменит торжество России, духом и мыслью, над заскользившей по пути в «ничтожество», в саморазрушение Европой, но может сильно отсрочить, на сто или двести лет, и тогда уже Европу ничто не спасет), ни предвидения Лермонтова «Настанет год, России черный год, Когда царей корона упадет…», ни даже более мягкие, но все равно очень близкие к чаадаевским мысли роднейшего ему Хомякова, что без покаяния после всенародных предательств на протяжении русской истории опять может «грянуть»… Ему отчаянно хочется верить, что «все будет хорошо», и эта вера не только периодически закрывает ему историческую перспективу, что тоже весьма и весьма мешает в полную мощь расправить крылья его поэзии, но и ведет к новому витку погружения в безысходное, по сути, язычество: после влияния идей Рылеева и Катенина, что христианство ослабило «силу воли» русского народа, – идей, от которых он избавляется прежде всего собственным чувством и разумением, но и при большой помощи Пушкина и Хомякова, он из двух славянофильских позиций выбирает ту, которая гласит, сначала народ – христианство и даже Христос потом, превращая народ и «святую Русь» в очередного кумира, которого лучше бы было себе не творить. (Как не творил, скажем, Лермонтов, при том, что многие после встреч с ним писали о нем как о «русомане» и о русском шовинисте – возможно, в этом причина того, что в «Былом и думах» Герцен всячески отрицает личное знакомство с Лермонтовым, хотя не быть знакомы они не могли: бывали в одних и тех же домах и оба были на первых ролях в «Маловском бунте», выступлении студентов против ненавистного профессора Малова.) Отречение от кумира намечается после начала дружбы с Гоголем, Языков с Гоголем вообще смыкаются как две половинки, восполняя друг другу недостающее, но явные следы преобладания в вере Языкова «географического» над «всемирным» (это я вспоминаю – напоминаю – наш разговор о русской духовной поэзии) остаются с ним до конца.
3. Еще одно препятствие, которое Языков преодолевал с большим трудом: то, что он слишком закрепился на железобетонной платформе «просвещенного» и «просветительского» восемнадцатого века, впитав те принципы и установки