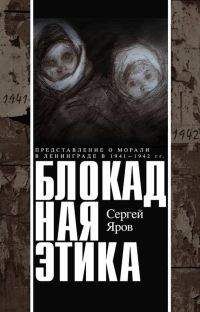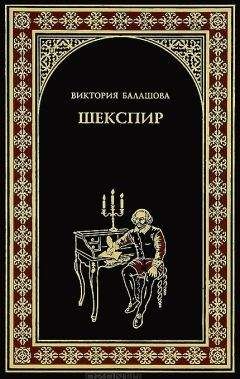У эмоциональной, остро чувствующей любую несправедливость Е. Мухиной ненависть к насильникам выражена наиболее ярко и категорично. Потрясенная обилием разнообразных свидетельств о нацистских злодеяниях, она каждое из них переживает особо, – и мы замечаем, как растет охватившая ее жажда мщения: «Нет, они заплатят за все. За погибших от бомб и снарядов ленинградцев, москвичей, киевлян и многих других, за… изуродованных… бойцов Красной Армии, за расстрелянных, растерзанных… раздавленных женщин и детей. Они заплатят сполна за изнасилованных девушек и маленьких еще девочек…, за изрешеченных разрывными пулями маленьких ребятишек и женщин с младенцами на руках, за которыми эти дикари, сидящие за штурвалами самолетов, охотились ради развлечения – за все, за все это они заплатят»[1750].
Во всех этих откликах, гневных и непримиримых, подтверждаются главные нравственные правила: нельзя причинять боль людям, истязать малолетних и беззащитных, нельзя безразлично взирать на преступления. Но и сильнейшее чувство мести не позволяло сразу отбросить привитые людям этические нормы. Примечательна реакция ленинградцев на публикацию стихотворения Б. Лихарева, где имелись следующие строки: «…и немки подлые рожать не будут немчуру». В. Инбер, передавая отклики горожан на это стихотворение («смеются, говорят с усмешкой»), предупреждала, хотя и в исключительно мягких выражениях, что оно «дискредитирует эту тему». По ее мнению, «тут нужен писательский такт, нужно какое-то воспитание»[1751].
Значимым для поддержания моральных норм можно счесть и радиосообщения о добрых поступках ленинградцев, их сострадании, готовности помочь близким. Их нередко сентиментальный тон сильнее прочего мог взволновать блокадников. «Вечером была передача по радио и такое, что щипало за сердце. Это о маленькой 5-летней девочке, просившей у матери шоколаду и как она в 1962 году будет изучать историю Великой Отечественной войны», – отмечала в своем дневнике А. Н. Боровикова[1752]. Помощь детям в радиосообщениях подчеркивалась особо, иногда с эмоциональными интонациями. В воспоминаниях В. Петерсона мы обнаружим свидетельства о том, как ждали в ее семье увеличения размеров пайка к новому, 1942 г.: «И вот долгожданное сообщение: прибавляют выдачу хлеба, еще что-то… В конце сообщения голос диктора стал еще более торжественным и с большими паузами он объявил: „Детям… шоколада… по двадцать пять граммов!“»[1753].
Чаще всего о сострадании, о любви к людям, о попытках им помочь говорилось в выступлениях по радио О. Берггольц. Это и сделало ее символом блокады – ее, а не громогласного Вс. Вишневского, отдававшего в первую очередь дань патриотической риторике, и не Н. Тихонова, в чьих речах ощутимо излишне нарочитое равновесие трагичности и оптимизма.
Стершуюся от частого употребления патетику она оживляла безыскусным человеческим документом, трогательным и порой даже наивным, но неизменно вызывающим сочувствие к оказавшимся в беде людям. Конечно, и в ее рассказах чувствуется пафос, но для описания волнующих человеческих историй она находит слова не «казенные», а искренние, лишенные цветистости, почти «классические» – хотя и простые. Помощь, всегда помощь самым слабым, беззащитным, кто ничем не может отблагодарить за поддержку – это основной мотив выступлений Берггольц. Здесь нет крика, но воздействие ее речи неизменно сильно. Приведем почти полностью одно из ее выступлений в 1942 г. Все особенности языка Берггольц тут проступают наиболее выпукло: «Вот в январе этого года одна ленинградка, Зинаида Епифановна Карякина, слегла. Соседка по квартире зашла к ней в комнату, поглядела на нее и сказала:
— А ведь ты умираешь, Зинаида Епифановна.
— Умираю, – согласилась Карякина. – И знаешь, Аннушка… сахарного песочку мне хочется.
Соседка постояла над Зинаидой Епифановной, подумала, вышла и вернулась через пять минут с маленьким стаканчиком сахарного песку»[1754].
Карякиной удалось выжить с помощью других, живых и мертвых – такое часто случалось в блокадные дни. Один из военных отдал ей продукты, которые привез в Ленинград, не зная, что его семья погибла. В рассказе Берггольц можно обнаружить главный мотив – он проясняет его цель: «…Подумала она: съесть это одной – нехорошо. Жалко, конечно… Но не хорошо есть одной, грех, и позвала она Анну Федоровну и мальчика из другой комнаты, сироту, и еще одну старушку, ютившуюся в той же комнате»[1755].
Рассказ может показаться излишне сентиментальным, а его концовка и неправдоподобной – но слащавости в нем нет. Эти просьбы перед смертью, бесхитростные и лишенные пафоса, этот несчастный сирота и прибившаяся к нему, всеми брошенная «старушка» — какая уж тут слащавость. Нам не дано увидеть все причины, которые обусловили добрые поступки. Расспрашивать, что испытали при этом дарители, никто бы и не решился. Счастливы были получить хотя бы маленький кусочек хлеба, а лишние вопросы могли вызвать сомнения, отказы, извинения… Но такие истории случались не раз. Они отражены и в дневниках, и в воспоминаниях. Выступления О. Берггольц не лишены художественной отделки, но источником их являлись письма самих блокадников. Пропитанные глубоким сочувствием и жалостью к самым беспомощным, отмеченные вниманием даже к мелким подробностям, часто лишенные идеологических примесей ее слова в наибольшей степени оказались близки людям. Это знак того, сколь живыми еще оставались нравственные заповеди у многих ленинградцев. И они быстро отделили «своего» от «чужого». И чаще всего именно ей говорили о своих горестях, о том, что сделали доброго, кому помогли[1756].
В том то и была сила Берггольц, что она без крика и фальши говорила о вещах, всем понятных и всеми пережитых. И дидактика ее речей была такой же простой и благородной, без надрыва: «И выжили и Зинаида Епифановна, и Анна Федоровна, и мальчик. Всю зиму делились – и все выжили»[1757].
В ее выступлениях нет лишних слов, они даже кажутся скупыми – но их точность и эмоциональная сила потрясает. Эта черта особенно ярко проявилась позднее, в 1943 г., когда город сотрясали наиболее варварские бомбардировки. Вот одна из рассказанных ею историй. Мальчику П. Дьякову во время обстрела оторвало обе руки. Его с трудом спасли врачи. Мать, чтобы как-то смягчить боль, повела его в кинотеатр. Началась бомбежка. Мальчику оторвало ногу, мать погибла.
Берггольц увидела его в больнице: «Он рассказывает чужим, деревянным голоском, подробно, бесстрастно». Идти ему некуда: «„Теперь я остался один“– и отвернулся от людей к стене, не плача».[1758]