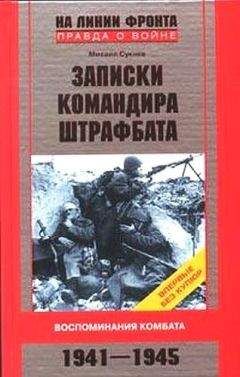Дня через три фрицы очухались: минут сорок артиллерия их бронепоезда от железной дороги месила нашу оборону с грязью и землей. Мы потеряли ранеными человек пять и убитыми — до десяти. Но это были потери обычные, как и в другое время…
Вскоре голос Педро звучал из динамика по Волхову для той стороны с призывами к «голубым» франкистам уезжать домой, кончать эту кровавую бойню! Не знаю, послужило ли это испанцам наукой. Но их дивизия скоро исчезла из поля зрения нашего армейского и фронтового командования.
* * *
Из окруженной и, можно сказать, погибшей 2-й Ударной армии даже в августе и сентябре 1942 года выходили наши люди, точнее, выползали истощённые, как дистрофики. К нам в 3-ю роту приползли трое: подполковник медслужбы — женщина, капитан особого отдела и старший лейтенант. В лесах они питались даже кониной-падалью…
Кто-то добрый сунул капитану кусок хлеба с маслом. Врач не успела этот хлеб вырвать из рук капитана, он проглотил половину и через секунды забился в судорогах, умер!..
Таких людей твердого сплава надо было бы комфронта Мерецкову награждать, представлять к званию Героя Советского Союза, но, увы…
* * *
В конце июля 3-й роте приказали атаковать Заполье, без артподготовки, рассчитывая «на внезапность». Я об этом не знал, ибо был отправлен на десять суток на отдых в ближний прифронтовой лес.
Кто руководил этой атакой-аферой — не помню. Сорок человек с винтовками при одном РПД наперевес ринулись на Заполье. И вдруг навстречу, с засученными рукавами, немецкие автоматчики, которые тоже готовились к налету на Лелявино! Завязалась рукопашная, но автоматы к таких стычках незаменимы. И наши, потеряв только убитыми двадцать человек, отпрянули назад в окопы и уже оттуда встретили противника залпами и пулемётными очередями! Ценою жизни товарищей рота предотвратила серьёзный налёт.
Погиб смертью героя командир роты, мой друг Столяров… Погиб даже без ордена посмертно и без воспоминаний о нём, как и обо всём нашем батальоне, да и о 1349-м полку!..
Шли осень, зима, приближался февраль 1943-го. Мы снова «обновились» почти на три четверти. Даже мое воистину стальное здоровье пошатнулось. Мой друг Герасимов делал мне массаж. Нам давали настой из сосновой хвои от цинги, многие заболели туберкулезом.
Как-то, будучи в полку за Волховом, встретились с моей приятельницей Мариам Соломоновной. Она, врач-терапевт, тут же меня прослушала. Заставила откашляться и, вертя меня, поставила диагноз:
— Миша, у тебя возможен туберкулёз! Ты заметно похудел, и твой кашель мне не нравится.
Но лечение я отложил до конца войны, отказавшись пройти рентгеновское обследование. А ведь уже тогда я был бы зачислен в инвалиды войны 1-й или 2-й группы и отправился бы в тыл, служить в военкомате, куда отправляли таких по здоровью.
Играя мускулами, я хорохорился перед Мариам, демонстрируя свою неуязвимость. И тогда произошло самоизлечение туберкулезного очага в верхушке правого лёгкого, который позднее, в 50-х годах, «дал мне жизни» вспышкой рассеянного туберкулеза лёгких в закрытой форме. Но и то ладно… Я стойко тянул на себе воз войны. Не сдавался и тут без боя…
* * *
Год сидели мы как бы в карцере, который ещё целят разгромить, взорвать. Такое ощущение. После этого ада мне остальное не стало страшно. На бруствер голову положу, подремлю, очнусь. Спасали здоровье и молодость.
Сибиряки, земляки мои, вообще выделялись среди других. Дотошные, крепкие. Сибиряк сидит до последнего, он не побежит никогда. Помню, когда еще мы наступали на Заполье, а потом отошли назад, потеряли пулеметчика Кобзева, парня с Алтайского края. А он остался на нейтралке и дня три-четыре там сидел. Нашли его, спрашиваем: «Ты чего?» Отвечает: «Как чего? Караулю, чтобы немцы не наступали здесь». Всю ответственность взял на себя одного.
Много лет спустя давал я объявления в наших местных газетах, хотел найти их. Ведь много у меня было солдат с Алтайского края. Но никто не отозвался…
* * *
10 февраля 1943 года наш полк, да и вся дивизия, оставив Лелявино, Теремец, Муравьи и другие участки обороны, начали фланировать вдоль правобережья Волхова, «демонстрируя», что наши части фронта готовятся к наступлению, и это заметил противник. Сюда он стянул до семи отборных дивизий, так нужных ему для захвата борющегося Ленинграда! Нам же, комбатам, этой стратегии тогда не дано было знать…
Где я вырос? Начну со слов из старой песни…
Родился я в тот самый год
В сырую мрачную погоду,
Когда восставший весь народ
Боролся за свою свободу.
В августе 1919 года началось грозное зиминское крестьянское восстание, которое положило начало партизанскому движению против Колчака в Алтайской губернии. Хваленые колчаковцы только в моем родном селе расстреляли человек двадцать. Война шла кровавая… Как раз во время подавления восстания я и родился — 21 сентября. Отец мой был в руководстве восставшими, поэтому мать таскала меня по буеракам, белые искали нас.
До мая 1918 года у нас была Советская власть, потом — эсеровский переворот, а в ноябре Колчак взял диктатуру. Повстанцев расстреливали, ловили на заимках.
Я — коренной сибиряк. Дед мой по отцу, Лев Герасимович Чоботов, был родом из села Шурап Лапшевской волости Чистопольского уезда Казанской губернии. Судьба его сложилась так. Отец отвез сына из села в Чистополь учиться. Стал он хорошим мастером — портным по шубам, верхней одежде. Приехал однажды в село на сенокос, управляющий налетел на него с плетью: «Почему плохо косишь?!» Ведь уже и после отмены крепостного права крестьяне-должники ходили к помещику на отработку. Дед стащил управляющего с лошади. Но не бил. Однако ему, двадцатилетнему парню, «за неповиновение управляющему на сенокосной отработке» вложили 25 плетей. И он бежал от стыда из дома. Прибился к бурлакам, валил лес и плавил до Астрахани. А через два-три дня после его бегства загорелась помещичья усадьба. Кто поджег? Началось следствие. Дед был задержан в Астрахани, его привезли в Чистополь и судили. В поджоге он до самой смерти не признавался, но в 1875 году был сослан в Сибирь «на вечное поселение». Умер Лев Герасимович, когда ему уже за восемьдесят было, мне — одиннадцать лет.
И вот она, Сибирь: Тобольская губерния, Тюкалинский уезд, село Карбаиново (ныне Омской области). Первоклассный портной, не пьющий и не курящий, имея золотые руки мастера по пошиву всего шубного, что носила Сибирь, дед скоро стал состоятельным человеком, имел свой выезд. Мотаясь по уезду, исполняя заказы хозяевам, летом он почти бездельничал, поскольку к крестьянскому труду не был приучен. В одно лето он пустился за хмелем в далекие Алтайские горы. Уехал аж на год! Вернулся с хмелем, что не рос в тех местах и имел большой спрос, и с молодой женой Марьей Никитичной, по-девичьи — Сукневой.