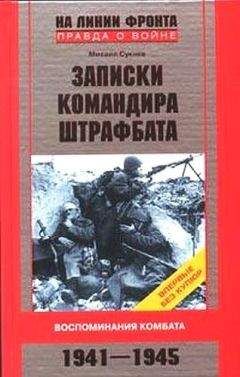Мне шёл шестой год. Я поступил во второй класс школы им. Достоевского. Тогда я зачитывался «Вечерами на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя до того, что боялся ночами выходить во двор… Всё прочитанное оставалось в памяти. «Муму» Тургенева, «Жилин и Костылин» Л. Толстого, рассказы М. Твена, сказки Пушкина… Тогда и позднее издавались объемистые книги — сборники по литературе, в которых печатались отрывки из русской и зарубежной классики, которые я читал от корки до корки! С ранних лет я взялся за грифельную доску и рисовал, рисовал, больше на военные темы. Потом появилась бумага и акварельные Тсраски. Что видел, то писал или рисовал с натуры. В третьем классе, да и в последующих, я выполнял ребятам задания учителя рисования, особенно девчатам-неумехам. Учитель был доволен, и меня стали уважать школяры.
Моя матушка водила меня в Бийске в кино и драматический театр. Высокая, стройная, с тонкими чертами лица, одетая небогато, но элегантно, мама была для меня свет в окне! Хотя иногда одаривала меня под горячую руку хорошей затрещиной! Остались в памяти первые увиденные мной фильмы, особенно «Красные дьяволята». Герои этого фильма — Машка, Мишка и Джо — будённовцы. Мы с ребятней играли в «сыщики и разбойники», в «белых и красных». Последние побеждали. Я — заводила. Мы делали шашки из дерева. Уже военный из меня получался. Соседние улицы побогаче жили, а мы победнее, дети красных партизан. Мы в свою кучку, они в свою. Улица на улицу.
Отца перевели на работу председателем промартели «Да здравствует труд!». Артель снабжала город колбасами, копченостями, овощами, имела маслобойки, кондитерские цехи, хлебопекарни. Обеспечивала население гужевым транспортом, ибо автомобилей еще не было, они начали появляться в середине 1929 года.
Мы переехали с улицы Льва Толстого за реку, заняв полдома на углу переулка им. Гоголя и Луговской. Тогда я учился в четвертом классе школы им. Гоголя. Был я все время «на ходу». Все знать, все видеть, все обследовать, все испытать — моя натура, моя стихия.
В четвёртом классе я нежно влюбился в красивую девочку Надю Геращенко. Но это всё прошло издали и тайно…. Познакомился с художником — взрослым больным человеком. Он писал маслом на фанерках и картоне пейзажи, и я днями пропадал у него, глядя на такую чудную работу, какой мне казались лубочные картинки. Стал осваивать технику рисования тушью и пером. Получалось неплохо, так оценивали мои способности преподаватели.
Усидеть на месте я долго не мог. В сандалиях, в шортах, пошитых из отцовского армейского ранца — брезентухи, окантованных понизу красной полоской, поначалу без рубашки, а потом в майке с короткими рукавами я гонял по Бийску рысаком! И тут натолкнулся на необычное: подле Успенского собора, в старом центре, в саду, в пятистенном доме обнаружил огромное количество книг, да каких! Полные собрания сочинений русских классиков, а также зарубежных: Майн Рид, Вальтер Скотт, Фенимор Купер, Конан Дойл, Джек Лондон, Жюль Берн, Мопассан, А. Дюма и ещё, и ещё! И фолиант русских сказок в сафьяновом красном переплете с заглавием сусального золота и окантовкой по страницам. «Бова Королевич», «Еруслан Лазаревич», «Илья Муромец», «Василиса Прекрасная»… А какие иллюстрации — тончайшая графика пером! Такого искусства нет ныне… Мой друг Владимир Колесников, член Союза художников в Новосибирске, занимавшийся историей русских сибирских завоевателей и землепроходцев и владевший искусством графики, заявил мне: таких фолиантов в СССР было одиннадцать. Все они — ценой на вес золота. Увы, я утратил тот том — украли.
Мы, дружки, ватажкой делали набеги на этот домик с реквизированными книгами старинной печати. Проломив ход в крыше, спускаемся, зажигаем свечки и начинаем «шурудить». Таскали книги по моему выбору к нам домой, хранили-прятали на чердаке в большом сундуке, окованном полосками жести.
С той поры я стал заядлым книгочеем. Набрал себе томов 500 — путешествия, приключения.
Мог читать с вечера до рассвета. Матушка была очень экономна и, жалея мое здоровье, как она говаривала, вечером отбирала у меня настольную керосиновую лампу. Тогда я садился на подоконник и при свете луны читал того же Дюма «Три мушкетера»… Мягкий свет полной луны, силуэт раскидистой ели под окном, доносившееся близкое журчание речки Маймы (приток Катуни), и мои герои… Полная идиллия!.. А днем ребята мои придут, зовут на игры или на стадион. Сами книг не читают. И все же я их приучил, начиная с простых, интересных по сюжету. И мои Васька и Витька уже так зачитывались, что мне уже приходилось их отзывать от книжек.
И ещё одна особенность. Неподалёку от нашего дома, который сохранился в Бийске по сей день, были слободы, татарская и еврейская. Там и поныне находятся действующие мечеть и синагога. Я дружил с еврейскими ребятами, мне нравилось, что они интеллигентны, музыкальны. Некоторые из них играли на скрипке, виолончели. Начинал и я у них учиться. Заходил посмотреть и в синагогу, и в мечеть.
Татарские ребята не пускали русских сверстников в сад Тэтэн-Годе. Попадется кто — побьют слегка, и выдворят из сада: не тронь наших красавиц чернооких! Меня же пускали, принимая за своего. Я был загорелый до черноты, носил тюбетейку. Ходил даже с месяц к ним в школу, изучал татарскую письменность и язык.
На мой вопрос, почему меня пускали даже за парту, а других нет, мой любимый дедушка Лев Герасимович пояснил, что у него бабушка была чистокровная казанская татарка. «Вот и ты смахиваешь, видать, на неё!» — говорил он.
Я любил слушать рассказы деда у него в столярке, где он жил. Рассказы о Стеньке Разине, о приволжских городах, о «хождениях по людям»… Незабываемо!
И вот наступил 1929 год. НЭП упразднили. Деревню разоряли на глазах всего мира! Предприятия артели, которой руководил отец, одно за другим сворачивались из-за отсутствия сырья. Так и хозяйство, где трудились агроном-садовод Петр Александрович Матусевич с женой Марией Казимировной — замечательные светлые люди, — осталось «у разбитого корыта».
К коллективизации я отношусь сугубо отрицательно, я ее видел своими глазами. Если хозяин зажиточный, даже бывший красный партизан, — сослать!
Нашу семью потрясло сообщение о выселении в Нарымский край брата моей матери Трифона Алексеевича Захарова из Осколкова. Он сроду не имел батраков, наследовал хозяйство от своего отца, никогда не знавшего отдыха от работы по хозяйству и в поле. А чтобы семейные не разленились, зимой гонял ямщину с товарами из Барнаула до предгорий, куда переселил взрослого сына. Это была старинная сибирская семья, патриархальная и православная. Увезли Трифона Алексеевича с семьей с четырьмя ребятишками в Красный Яр, за Томск… Обчистили донага, забрали все нажитое за то, что жил «крепко», хотя мясо дозволялось только в праздники…