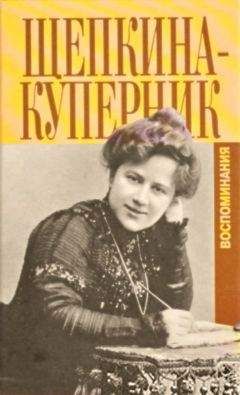Обстановка в Озерском была тоже уж не так приятна, как летом: надо было входить в самый трактир. Обычный деревенский трактир, сотни раз описанный и у Тургенева, и у Успенского, и у Лескова: спертый воздух, прилавок с ржавыми селедками, полки с «казенкой» или тенерифом жестоким бр. Змеевых, сиделец в розовой рубахе, на стенах олеографии с царской фамилией, засиженные мухами… В точно таком же трактире лет за двадцать до того по пути от Чеховых в Москву останавливались мы погреться, а за сто лет — останавливался Чичиков где-нибудь по дороге к Коробочке… И тоже казалось, что это — увы — неизменно. Так же уезжали мы последний раз из Калабриева, не подозревая, что больше никогда туда не вернемся, что там оставили мы за собою не только старый дом и старый сад, но и старый быт, который тоже уж больше никогда не вернется и который, конечно, был гораздо ближе прошлому веку, чем теперешнему, от которого его отделяет только четверть столетия.
Поскольку я пишу о «театре в моей жизни», я должна написать о том, какое значение имел для меня Шекспир.
Мне кажется, у человека в жизни, кроме любви к кому-то, может быть еще любовь к чему-то, именно любовь. Не вкус, не склонность, а настоящая любовь, глубокая, согревающая, вдохновляющая, отличающаяся от той любви только тем, что в ней отсутствует элемент страдания, большей частью неизбежный там.
Вот такой любовью я любила и люблю: море, Бетховена и Шекспира. С детства.
Море! Я помню его с тех пор, как начинаю помнить себя. Может быть, врезалось в память выражение лица моей матери, когда она говорила мне, смотря со мной из окна вагона:
— Сейчас ты увидишь море! Море!
Ее волнение передавалось мне, и, когда вместе с ее восторженным восклицанием: «Море, вот море!..» — передо мной в окне блеснула огромная, сверкающая, колышущаяся серебряная полоса, я почувствовала что-то необычайное, совершенно изменившее мое представление о мире, до тех пор ограничивавшееся четырьмя стенами моей детской да Летним садом.
С тех пор я видела много красоты. Но ни снежные горы Швейцарии, ни лазурные озера Италии, ни могучие леса Тюрингии — ничто не могло для меня сравниться с морем. И на морском берегу я могла просиживать часами, не отрываясь взглядом от моря и забывая время.
С детства же я полюбила Бетховена.
Мать моя, прекрасная пианистка, ученица Рубинштейна, постоянно играла дома, и я росла в атмосфере классической музыки. Бетховен, Шопен, Шуман, Чайковский, Глинка — все это были с моих четырех-пяти лет мои знакомые. Взрослой девушкой, бывая в симфонических концертах, я постоянно узнавала слышанные когда-то мотивы, и, когда встречалось что-то, что производило особенно сильное впечатление, я почти могла быть уверена, что это Бетховен.
Помню, когда я так узнала аллегретто из седьмой симфонии, я взволновалась, как будто встретила любимого человека… И до сих пор я нахожу в Бетховене все новые и новые красоты, и всей жизни не хватит, чтобы исчерпать их.
Так было и с Шекспиром.
Я уже говорила, что первым настоящим знакомством с Шекспиром я обязана, как и многим ценностям моего духовного мира, М. Н. Ермоловой.
Мне было лет восемь, когда меня взяли в Малый театр на «Гамлета», и я увидела Ермолову в роли Офелии. Конечно, я не поняла и сотой доли того, о чем шла речь в пьесе, весь ее глубочайший смысл не мог даже приблизительно быть доступен мне, но прекрасная Офелия, ее несчастная судьба, рассказ о том, как она утонула, — все это совершенно неизгладимо врезалось в память, и сейчас я мысленно ясно вижу фигуру Ермоловой в белых одеждах, ее распущенные волосы и тот трогательно-беспомощный жест, с которым она протягивала цветы и выпускала их из пальцев, так что они сыпались кругом нее на землю.
На другой же день я разыскала Шекспира на полках в дядином кабинете и перечитала все, что было в «Гамлете» об Офелии. Потом я постоянно перечитывала рассказ о том, как она утонула, и твердила про себя строки:
…Где седая ива
Глядится в зеркало кристальных вод… —
и они вызывали в моем воображении речонку, около которой мы жили летом, ее кусты, лютики и незабудки приобрели для меня особое значение: летом, увидав ее, я сейчас же вспомнила Офелию.
Так у меня начали возникать ассоциации — этот важнейший фактор и необходимый элемент поэзии и эстетики. Я испытывала неизъяснимые и неанализируемые ощущения какой-то новой красоты, которой стала для меня полна наша скромная речка.
Я завладела Шекспиром и читала его. Я выбирала то, что было мне понятно и занимательно: все лесные сцены из «Сна в летнюю ночь», многое в «Буре», в «Зимней сказке», пока принимая только сказочное в Шекспире.
С годами я стала понимать все больше и больше. Продолжала знакомиться с произведениями Шекспира в лучшей школе, какая тогда могла быть мне доступна, — в Малом театре. Я присутствовала при блестящих поединках любви и остроумия между Катариной и Петруччо («Укрощение строптивой»), Беатриче и Бенедиктом («Много шума из ничего») в исполнении Федотовой и Ленского. Вместе с Ермоловой переживала страдания гордой и чистой, невинно оклеветанной Имогены («Цимбелин»), была свидетельницей «чуда» в «Зимней сказке», когда Ермолова — Гермиона спускалась с пьедестала и из мраморной статуи превращалась в живую женщину. Тот, кто не видел этого превращения, не может вообразить, как оно было замечательно.
Может быть, причиной этому была та статуарная неподвижность, которую хранила Ермолова, стоявшая так спокойно, не шевелясь, что нельзя было уловить ни одного вздоха, и только тогда, когда Леонт начинал с изумлением говорить:
Но она ведь дышит!
Ужель резец изобразил дыханье? —
точно какой-то трепет пробегал по всему ее существу, и она выходила из своего оцепенения, мраморно-бледное лицо на глазах зрителей розовело, и она тихо спускалась с пьедестала, глядя на дочь свою, на мужа, а не на ступени, по которым шла легко, точно ее поддерживали крылья.
Я смотрела все произведения Шекспира, которые ставили в Малом приезжие гастролеры, позднее — спектакли Художественного театра. Одним из любимых спектаклей оставался «Сон в летнюю ночь».
Я видела его сперва в Малом театре, затем в Новом, где его свежо и с увлечением поставил А. П. Ленский. Среди исполнителей было много моих приятельниц, я навещала их за кулисами и под «дубом Титании».
«Сон в летнюю ночь», конечно, только сказка, но сказка, рассказанная гением, и перед ней забываются и меркнут многие серьезные вещи.
Большое впечатление произвела на меня постановка «Сна в летнюю ночь» за границей, работа знаменитого режиссера-новатора Рейнгардта, впоследствии изгнанного из Германии фашистами.