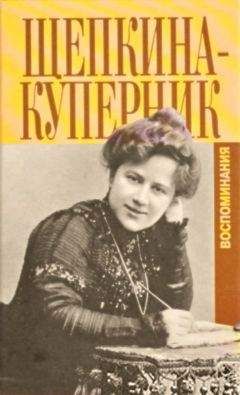«Сон в летнюю ночь», конечно, только сказка, но сказка, рассказанная гением, и перед ней забываются и меркнут многие серьезные вещи.
Большое впечатление произвела на меня постановка «Сна в летнюю ночь» за границей, работа знаменитого режиссера-новатора Рейнгардта, впоследствии изгнанного из Германии фашистами.
Идея Рейнгардта была, очевидно, строго разграничить реальность и фантастику. Все действующие лица из обыкновенного мира были жизненны, даже чересчур, так что, например, обе пары влюбленных утратили поэтичность своей первой любви, своих ссор, быстрых и бурных, как весенние грозы, и примирений, залитых солнцем юности. Зато необыкновенно поэтичны были все сказочные персонажи. Особенно хорош был Оберон. Его, вопреки традициям, играл мужчина — знаменитый Александр Моисеи, хорошо известный в России по своим гастролям, во время которых он играл царя Эдипа, Гамлета и другие роли.
В «Сне в летнюю ночь» он был замечательно красив, горд, строен в своих царственных одеждах, словно свитых из тумана и лесной зелени. У этого артиста был голос редкий для мужчины по красоте и нежности, и глаза его «из другого мира» и бледность тонкого лица давали возможность допустить его близкое знакомство с Гекатой, о которой он говорит в своем монологе, и родство с Аполлоном и Люцифером, сыном утренней звезды. Так идеально воплощенную «сказочность» персонажа я видела разве (совсем в другой плоскости) у Качалова в царе Берендее («Снегурочка»). Титания была женственно-нежна и изящна. Но всех больше привлек мое внимание Пэк — смуглая Леа Константин. Это не был балетный эльф в цветочном колпачке, как его у нас играли раньше Щепкина, потом Хилкова, обе крохотные, грациозные, — нет, настоящий лесной дух — рыжий, обросший мехом, точно молодой фавненок; он визжал, кувыркался, скакал, как белка, по веткам, хохотал и плакал, словно вся лесная нечисть, вместе взятая.
Фантастическая жизнь леса была передана изумительно. Я забыла, что сижу в театре: стены раздвигались, высоко в небо уходили вековые дубы. Свивались хороводы эльфов, пробегавших между деревьями, точно гаммы быстрых огоньков. Странные чудовища, гномы, лесные человечки верхом на оборотнях, как на рисунках Беклина, Клингера и Штука, ползли и прятались среди пней, сильфы с белыми венками на головах, нежные, стройные, сплетались и таяли, как туман, в кустах, волоча серебряные покрывала. Пело, аукалось, перекликалось эхо в лесу, и дико хохотал рыжий белозубый Пэк, глядя, как в капризной сладкой тоске изнывала Титания, обвивая гирляндами из роз голову осла, и как царь теней ревновал ее к ребенку.
Когда спектакль окончился, отзвучала мендельсоновская музыка, мне казалось, что я не в театре побывала, а своими глазами увидала ту «сказку леса», о которой говорит поэт Верхарн.
Я не давала своему знакомству с Шекспиром остановиться в развитии. Следующей помощницей моей в этом деле была мисс Дженет Логан, которую я пригласила к себе на три месяца, решив доставить себе радость читать Шекспира в подлиннике, а для этого изучить английский язык. Чопорная старая девица, добрейшее существо, оказалась на высоте. В серые петербургские утра, когда мы должны были заниматься при свете электричества, она часто приносила большое красное яблоко, вешала его перед моими глазами и уверяла, что от этого вида будет бодрей мой дух. Яблоку ли, ее ли энергии я обязана этим, не знаю, но за три месяца я вполне свободно могла читать Шекспира. Это была для меня действительно новая радость. Как бы ни были удачны переводы Шекспира, с оригиналом их все же нельзя сравнить. Но тут — впрочем, это мой личный взгляд, — я должна заступиться за старые переводы Шекспира, которые принято строго критиковать. Что и говорить, они не отвечают всем требованиям современного перевода, они страдают длиннотами, многословием, в них попадаются наивные ошибки. Но все же неправы те, кто отрицает какие бы то ни было достоинства их и говорит, что «до новых переводов Шекспир не был понят». Шекспир был и понят и принят читателем и зрителем, и, кто знает, может быть, это многословие отчасти даже помогало этому: по крайней мере мысль Шекспира доходила в своей цельности и никогда не получалось того, что в своей блестящей статье («Театр», 1940, № 2) К. Чуковский назвал «астмой у Дездемоны». Мне кажется, что важнее донести мысль Шекспира, пусть сказанную лишним количеством слогов, слов и даже строк, чем механическую форму фразы. И в старых переводах попадаются такие счастливые места, что лучше их не переведешь и не скажешь, хотя бы, например, окончание «Ромео и Джульетты» у Грекова:
…Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте.
Или из «Отелло» (перевод Вейнберга):
…Она меня за муки полюбила,
А я ее — за состраданье к ним.
Или из «Гамлета» (перевод Кронберга):
…И башмаков еще не износила,
В которых шла за гробом моего отца…
Но, конечно, подлинник открывает новые красоты, и совершенно равноценных Шекспиру переводов, по-моему, быть не может, для этого надо было бы явиться поэту, равноценному ему. Таким мог бы быть наш великий Пушкин. Это видно из его поэмы «Анджело», представляющей собой пересказ, а местами и точный перевод комедии «Мера за меру». Я читала эту поэму и горько сожалела, что Пушкин (владевший английским языком и читавший Шекспира в подлиннике) не успел заняться переводом Шекспира… Ему сродни был вселенский гений, с которым его можно, не боясь, поставить рядом. Может быть, и придет такой поэт, когда взрастет «племя младое, незнакомое», а пока перед русскими переводчиками огромная, благодарная задача — по мере сил своих давать хорошие переводы Шекспира, что особенно важно у нас. Молодежь нашей великой Родины выделяется такой тягой к культуре, такой жадностью к впитыванию всевозможных отраслей знания и овладению классиками, что настоятельно требует от нас ознакомления ее с мировой литературой, поэзией и наукой.
Следующим этапом на пути моих «отношений с Шекспиром» была поездка на его родину. Долгое время я мечтала о том, чтобы посетить места, где он родился и жил. Я была уже замужем, когда удалось осуществить заветную мечту, и я отправилась в Англию, как паломник в Мекку.
В Лондоне мне не хватало двух вещей: сил и времени.
Я жадно ловила впечатления, гораздо активнее, чем в Париже, может быть, потому, что английская литература мне ближе французской, на Шекспире и Диккенсе я выросла, и многое казалось знакомым из того, что я видела.
Но здесь я упомяну только о нескольких местах, посещение которых было связано непосредственно с моей целью. Первым было Вестминстерское аббатство, затем — Темпль и Виндзор.