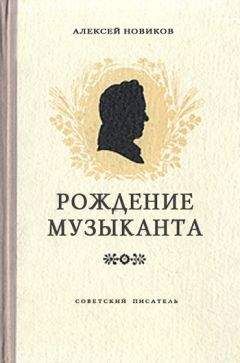Елена Дмитриевна Демидова сидела в тот вечер в одиночестве, закутанная в соболью пелерину.
– Надул итальянец, – жалобно сказала Елена Дмитриевна, – придется нам без Беллоли петь! – Она протягивала слова à la мужик, а серые глаза смотрели на гостя с простодушной ленцой: – Может, как-нибудь и споемся? – и скинула соболий мех с крутых плеч.
Все было готово к началу опасного романа, но вместо того началась репетиция. Елена Дмитриевна готовила с Глинкой «Волшебный напиток», оперу Доницетти.
Они пели дуэт в полном согласии. «Волшебный напиток», изготовленный в Италии, пришелся как нельзя более по вкусу правнучке тульского кузнеца. Но Глинка упорствовал в прежнем своем мнении: ни в чем не была так хороша Елена Дмитриевна, как в отечественных песнях. И хотя пела она их редко, но именно они, норовистые, чуть было не разбили вдребезги задуманную в Коломне сонату.
Когда первое Аллегро было готово, а к нему прибавилось Анданте, в малахитовой зале было назначено собрание. Оно не было многочисленным и ничем не напоминало в этот раз музыкальных soires демидовской наследницы. За роялем сидела девица Лигле, музыкантша из Вены, альтовую партию готовился играть сам автор. Кроме Елены Дмитриевны, присутствовал всего лишь один гость, который хранил упорное молчание. Соната заново рождалась под малахитовыми колоннами уже не только в воображении сочинителя, но и в сознании приглашенных знатоков.
Но меньше всех мог насладиться плодом своих вдохновений сам сочинитель. Партия альта требовала той легкости и подвижности игры, которых он никак не мог добиться.
Едва кончилось исполнение, господин Бем первый нарушил молчание, наступившее в зале.
– Мсье Глинка, – с укором сказал концертмейстер, подойдя к ученику, – я всегда говорил вам… – и он разобрал все неловкости, допущенные артистом. – Вы есть вторая скрипка. Mon Dieu! Кто же посадил вас на солирующий альт?
Господин Бем не мог допустить, чтобы неловкий альтист причинил незаслуженные обиды автору сонаты. Он взял смычок, снисходительно посмотрел на Глинку и отнесся к девице Лигле:
– Gommençons nous, mademoiselle![50]
Господин Бем играл, все более увлекаясь. Артисту, воспитанному на благороднейших созданиях классики, был так близок этот мир возвышенных мыслей, воплощенных в сонате с мудрой простотой. Но каково же было удивление концертмейстера Большого театра, когда Елена Дмитриевна обернулась к его собственному, неважному ученику и спросила:
– Когда же вы закончите сонату, Михаил Иванович! Знайте, я умею быть очень нетерпеливой!
Господин Бем, стоявший подле малахитовой колонны, сделал шаг вперед и смешно поднял руки, будто ждал, что на него обрушится сейчас потолок, затем он остановился перед Глинкой, который вдруг нахмурился.
Он нахмурился вовсе не потому, что Елена Дмитриевна нарушила данное слово и выдала его с головой. Глинка даже улыбнулся господину Бему, оправдывая свое пристрастие к тайнам, а потом снова обратился к хозяйке дома, и какая-то нерешительность послышалась в его голосе, когда он ответил на ее вопрос:
– Боюсь, Елена Дмитриевна, что вашему долготерпению предстоят немалые испытания. Может быть, эта соната никогда не будет окончена…
– Мой милый, – душевно сказала хозяйка дома, беря Глинку под руку, – я смерть не люблю ни пьес, ни романов без продолжения, – Елена Дмитриевна снова растягивала слова, и это очень ей шло.
За ужином, накрытым на четыре прибора в маленькой столовой, кузнецова правнучка сидела ко всему равнодушная и предоставила господину Бему полную возможность излить его недоумения. С одной стороны – соната, и какая соната! И как великолепен в ней альт! С другой стороны – все тот же мосье Глинка, давно известный учителю заурядный ученик! И тут уж господин Бем никак не мог привести свои мысли хоть к какому-нибудь единству.
По счастью, девица Лигле пользовалась каждой паузой, чтобы выразить сочинителю свой восторг от фортепианной партии…
Пришел 1825 год. В сонате для альта с фортепиано не было никакого прибавления. Чем чаще обдумывал свое предприятие Глинка, тем сильнее бороздила его лоб упрямая складка. Повтори свой вопрос Елена Дмитриевна о сроках завершения сонаты, теперь не только бы нахмурился сочинитель, но и наговорил бы ей, пожалуй, колких слов, потому что именно она была во всем виновата.
Плененный полевой красотой ее голоса, Глинка замыслил ввести в сонату русские напевы. Поначалу это казалось совсем просто. После Аллегро и Анданте должно было следовать Рондо в русском духе. Избранный для этого мотив жил в его воображении, не давая покоя, оставалось только приняться за писание. Но время опять шло, а он не мог заполнить ни одной нотной строки. Русский напев, избранный для Рондо, был воздушно-легким и грациозным, но обладал тяжелым характером. Едва обжившись в воображении сочинителя, он завел отчаянную свару с контрапунктом и нимало не желал смириться перед правилами европейской гармонии, приличными для сонаты. Более того: ежеминутно являясь сочинителю, он нашептывал ему, что не намерен соседствовать ни с великолепным Аллегро, ни с классическим Анданте.
– Как же быть? – спрашивал себя в затруднении сочинитель, разглядывая опрятно соображенные им первые части сонаты.
А напев, избранный для Рондо в русском духе, нашептывал такие мысли, от которых сочинитель приходил в полную растерянность. Напев этот решительно не хотел уложиться в сонатную форму. Выходило так, что нужно было ломать эту форму и изобретать новую. Но ломать, как известно, очень легко, а еще легче остаться с разбитым корытом, потому что никакой особой русской формы для сонаты еще нет.
Вот что наделала Елена Дмитриевна с небесным своим голосом, хотя, может быть, и вовсе ни к чему была ей задуманная пьеса.
Случай привел Глинку вместе с маэстро Беллоли в палаццо Демидовых. Случай пожаловал кузнецову правнучку незабываемым контральто. От случая возникла мысль о сонате.
Впрочем, если так смотреть, вся жизнь состоит из случайностей. А бывает и так, что возьмет норовистый человек и станет ковать из случайностей цепочку. И тогда может произойти разное, скажем: соната для альта с фортепиано, да еще со включением русских тем. Здесь бы и опять оборваться цепочке, если не оказалось никаких способов для решения неразрешимой задачи. А Михаил Глинка, не приступая даже к Рондо, перешел к рассуждению о русской симфонии. Но тут уже надо было строить на чистом месте и, казалось, вовсе не о чем рассуждать…
В филармонических собраниях, переселившихся в Пале-Рояль, покинутый дядюшкой Иваном Андреевичем, попрежнему играли симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена и наряду с этим самые ничтожные произведения Запада, в которых ученое обличье едва прикрывало убогую наготу мысли. Глинка трудился в постоянном напряжении, но в доказательство трудов своих не мог бы предъявить даже перемаранного или порванного нотного листа.