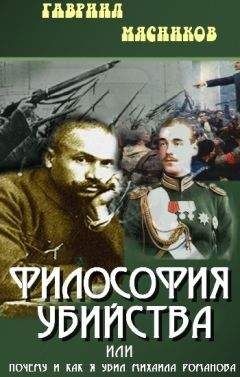— Ваше вероисповедание?
— Да, понимаю. Православный.
И начал петь по-немецки.
— В Моабите научились? — переждав, пока он кончит, спросил врач.
— На улице.
— Что такое Моабит?
Камо не ответил, проделал странные движения, напоминающие о виселице, решетке и кандалах.
— Почему вы отказываетесь от принятия пищи?
— Он умер.
— Кто умер?
— Его зовут не Мирский, а Аршаков. Он не знает, как его зовут. — И Камо встал.
— Пейте, это молоко.
Он не притронулся к стакану.
— Это яд, пейте.
Камо схватил стакан и залпом выпил.
— Садитесь, — в голосе врача прозвучали жалостливые нотки.
Камо сел.
— Можете сказать, как вы повредили глаз?
— В одной лавке, от взрыва спирта. Десятого мая 1907 года. Когда я рассказал об этом доктору Житомирскому, он убедил меня сказать лечащему меня профессору Хиршфильду совсем другое.
— Что именно?
— Будто я повредил глаз в мае 1907 года от взрыва бомбы.
— Почему? Что его заставило так поступить?
— Не знаю. Как выйду из тюрьмы, спрошу у него…
— Но ведь хирурги в глубине вашего глаза обнаружили медные осколки.
Камо промолчал.
— Господин Тер-Петросов, почему вы скрываете ваше имя? Настоящее имя?
— Чтобы не огорчать семью. Если они прочтут в газетах, что я арестован, будут очень переживать.
— И вы утверждаете, что вы Дмитрий Мирский?
— Я репортер одной из грузинских газет, я стал жертвой Петрова. Петров — социал-демократ.
— Почему вы приехали с этим паспортом?
— Мирский родом из Галиции, из села Рохатино. Я приехал по делам страхового общества.
Врач вспомнил утренний инцидент. Камо расхаживал по коридору, спокойный, уравновешенный. Неожиданно его стукнул больной кататоник Фехнер. Камо убежал в палату, бросился плашмя на кровать и разрыдался. Плакал навзрыд, вскидывая плечи. Его долго не могли успокоить.
Врач сжалился над ним.
Но полиция и суд торопили. У них руки чесались. Они что ни день осведомлялись о состоянии здоровья Камо, требовали вернуть его в тюрьму. Верховный прокурор, не теряя времени, уведомляет полицай-президента: «По сведениям заведующего Бухской психиатрической лечебницей состояние здоровья страхового агента Мирского-Аршакова улучшилось, и не исключено, что он со временем выздоровеет. Покорнейше прошу немедленно сообщить об этом в четвертое отделение».
Заведующий лечебницей врач Рихтер беспрекословно подчиняется прихотям полиции и мечтает о том дне, когда наконец освободится от ненормального армянина. «Если в подследственной тюрьме будут считаться с тем, что Аршаков находится в состоянии выздоровления, то врачи не могут ничего возразить против перевода его в подследственную тюрьму. Во всяком случае, в настоящее время он в состоянии принимать участие в судебном разбирательстве».
Служители берлинского правосудия только этого и ждали. 16 апреля 1909 года сбылась мечта Рихтера. Камо под усиленным надзором переводят в Берлинскую уголовную тюрьму.
Возражения доктора Гофмана пропали впустую. «В состоянии принять участие в судебном разбирательстве». Нет, не в состоянии. И Гофман обратился к прокурору: «Он отказался от принятия пищи. Начал бормотать себе под нос непонятные вещи, и по временам на его лице появлялась идиотская улыбка. В последние дни от него нельзя было добиться разумного ответа. Вследствие отказа от принятия пищи пришлось приступить к искусственному питанию.
Сегодня с Мирским произошел припадок помешательства: он разрушил помещенные в его камере предметы, хотел наброситься на надзирателя, так что его пришлось связать и поместить в камеру для буйных заключенных.
Безусловно, нельзя предположить, что Мирский к 3 мая поправится настолько, чтобы принимать участие в судебном разбирательстве.
Я также считаю почти совершенно несомненным, что рассмотрение дела Мирского, насколько можно предвидеть, будет и впредь невозможным, как только Мирский будет возвращен в тюрьму, его состояние, находящее себе благодатную почву в истерии, вернется вновь. Необходимо, чтобы душевное здоровье Мирского снова значительно и прочно укрепилось, но этого можно ожидать лишь по истечении многих лет».
Камо сполна оправдал «надежды» доктора Гофмана.
Назначенное на 3 мая 1908 года судебное заседание не состоялось, а 11 числа шеф полиции передал в Петербург: «Мирский после своего перевода в следственную тюрьму снова впал в безумие, был признан судебными медиками неспособным принимать участие в судебном разбирательстве и в соответствии с этим опять был переведен в психиатрическую лечебницу Бух. По-видимому, теперь в течение длительного периода не придется рассчитывать на выздоровление Мирского, который в настоящее время числится здесь под фамилией: Тер-Петросянц».
«Да-а!»— сказали в Петербурге и «Тьфу!»— плюнули, крепко разругав полицай-президента Берлина.
30 апреля Камо вновь был в Бухе.
На следующий день департамент полиции Петербурга поставил в известность шефа берлинской полиции: «Точных и неоспоримых доказательств участия Мирского в ограблении отделения Императорского Государственного банка в Тифлисе представить не можем. Мы располагаем конфиденциальными сведениями, которые не могут быть представлены суду, из коих видно, что Мирский фактически находился среди грабителей, которые совершили указанное ограбление Государственного банка в Тифлисе. Из того же самого источника следует, что живущие за границей русские революционеры составили план освобождения Мирского из тюрьмы в Берлине».
Нетрудно было догадаться, что это за сведения, которые не подлежат оглашению.
Гартинг и Житомирский — вот где была зарыта собака.
Когда его снова привели в Бух, он был уже «профессиональным умалишенным».
Судья кипятился:
— Вы, что же, каждый день будете выявлять новую болезнь?!
Но по результатам опытов он болен.
И врачи рассказали, что они вводили иголки под ногти, в разные участки тела. Опыты не возымели на него действия. Он не чувствует боли. В медицинской практике отмечены подобные факты: душевнобольной не ощущает причиняемую ему боль.
— А вы пытались коснуться его спины раскаленным железом? Вот тогда вы увидите, как он закричит: «Ой, мамочка!»— подсказал комиссар по уголовным делам.
— Но это варварство! Мы не можем, мы отказываемся!
— В таком случае, господин доктор, вместо железного наконечника подложите ему под мышки воздушные шарики, пусть улетит, сбежит из тюрьмы, а вы, как сестра милосердия, споете ему колыбельную. Через два дня назначаю последнее медицинское испытание. Господин Гофман, кроме вас должны присутствовать доктор Леппман, доктор Мюзам. Других зрителей не надо, даже адвоката. И мы тоже будем. Мы ему развяжем язык у вас же на глазах.