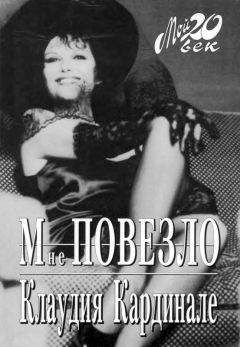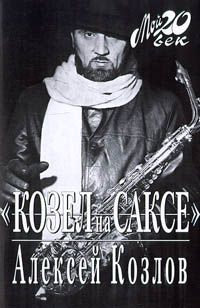И тут Паскуале, схватив пистолет Кристальди, выскочил и пальнул в воздух…
Ну а газеты потом, совершенно не учитывая, в какой обстановке нам приходилось жить, написали, что Паскуале стрелял в ни в чем не повинного фотографа, который всего лишь выполнял свой профессиональный долг.
В сознании общественности это обстоятельство каким-то образом стало ассоциироваться с тюрьмой, через которую Паскуале пришлось пройти: эта его история носила кафкианский характер. Паскуале арестовали без всякого обвинения, чуть ли не в самолете, на котором он должен был лететь в Москву, где ему присудили приз за фильм «Дикий народ», наделавший до того много шума на Венецианском фестивале. Правдой были только две вещи. Первая — слова министра юстиции: «Немного тюрьмы Скуитьери не повредит». Вторая, она же следствие первой, — содержание Паскуале в одиночке в отделении «строгого режима» тюрьмы «Ребиббья». За четыре с половиной адских месяца никому — ни мне, ни детям — не дали с ним свидания.
Предпочитаю вспоминать о появлении на свет нашей девочки. Роды, как, впрочем, и в первый раз, были на удивление легкими. Схватки начались в девять утра, а через два часа я уже держала на руках чудесную малышку весом три с половиной килограмма.
Присутствовавший при родах Паскуале сразу же отправился регистрировать новорожденную. Вернувшись, он сказал: «Все в порядке. Имя Клаудия…» Я спросила: «Но почему?» А он ответил: «Потому что теперь, когда я позову одну Клаудию, придут сразу две… Разве это не прекрасно?»
Сейчас я живу с нашей дочерью в Париже, а Паскуале — в Риме. Он ушел в политику, но надеется выкраивать время и для работы в кино. Мы встречаемся при любой возможности, а она предоставляется довольно часто. То он приезжает ко мне, то я езжу к нему. Мы — два свободных человека, решивших всегда быть вместе. Я нахожу это прекрасным.
Иногда он упрекает меня в некоторой несерьезности, говорит, что в работе я довольствуюсь вещами, которые не должны меня удовлетворять, что мне следует быть более требовательной. Однако он никогда не вмешивается в мою жизнь, не оказывает влияния на мой выбор — в свое время именно за это я его и полюбила. Полюбила за то, что он вернул мне саму себя.
Да, сегодня я хочу, наконец, жить так, как мне нравится: быть и чувствовать себя свободной. А когда я говорю «свободной», то имею в виду не свободу в области чувств, наоборот, для меня очень важна верность, мне никогда не нравились легкие измены или приключения ради приключений.
Вот уже двадцать лет без сожалений и сомнений я остаюсь спутницей жизни Паскуале Скуитьери: с ним и у него я научилась быть новым человеком, способным, как никогда раньше, жить в своем времени и более сознательно относиться к реальной действительности, культуре, политике. Он, ненавидящий «звездную болезнь», протянул мне руку и помог спуститься с пьедестала. Я перестала быть Дивой, я открыла в себе женщину и стала задумываться над тем, что собой представляю как личность, и вообще над женским вопросом. Я научилась признавать его критику, но научилась и относиться к ней критически.
Его жизнелюбие заразительно: он помог мне обрести и мое. В жизнь, которую я была вынуждена вести, постоянно сообразуясь с чувством меры и самоконтролем, он внес замечательную вещь — излишества. Началось это с его первого подарка. Когда мы закончили работу над «Молодчиками», я, вернувшись в гостиницу, увидела, что весь мой номер завален розами: там было триста красных роз, и, поскольку ваз для них не хватило, часть цветов сложили прямо в ванну.
Паскуале — противник всего предсказуемого, унылого покоя, скуки. И во время съемок — тоже. Работать с ним мне труднее, чем с любым другим режиссером, потому что он всегда требует, чтобы я со всей ответственностью относилась к своему персонажу не только как актриса, но и как женщина. Так было на съемках «Акта боли» и «Кларетты» — особенно в первую неделю работы, когда я обычно с трудом вхожу в образ. Почти насильно вталкивая меня в роль, провоцируя и требуя сразу выдать все, на что я способна, он может устроить мне разнос — суровый, прямо при всех. Паскуале знает меня. В отличие от других режиссеров, он прекрасно понимает, вошла я в образ или еще нет.
Сколько раз в прошлом, снимаясь у других режиссеров, я сама понимала, что не попала в точку, не сделала перед камерой того, что должна была сделать. Однако потом, по окончании съемок, — вот они, чудеса моей киногеничности! — я всегда убеждалась, что кинокамера преподнесла мне приятный сюрприз, что я, пожалуй, играла не лучшим образом, но результат все равно получился удачным.
С Паскуале такие штучки не проходят. Во время съемок он понимает, в каком я состоянии, и мне даже немного обидно, что меня так хорошо знают, я чувствую себя разоблаченной и не могу больше притворяться.
Естественно, что за двадцать лет совместной жизни у нас бывали ссоры, и еще какие. Иногда инициатива исходила от Паскуале, потому что его, случалось, разочаровывало мое поведение, моя склонность, — против которой я боролась вместе с ним, но которую так и не изжила, — к легкомыслию. Иной раз инициатива была моей — это когда я ссорилась с ним по прямо противоположной причине, считая, что нельзя жить так, словно в вашем распоряжении осталась последняя минута, то есть с максимальной отдачей. Для Паскуале часто самое главное — четкость и обязательность, а я отстаиваю свое право на безрассудство, на глупости, на любовь, как он говорит, к «тряпкам», которые мне, как, наверное, почти всем женщинам, очень нравятся. Мне все это нужно хотя бы для того, чтобы немного развлечься, подурачиться. Это так приятно, не все же сидеть в окопе.
Прошло двадцать лет, а я по-прежнему влюблена в него, хотя, возможно, у нас, как обычно бывает, уже не та давняя влюбленность, а более зрелое чувство. Ну, не знаю. Знаю только, что наши отношения с самого начала были особенными: мы никогда не опускались до компромиссов, никогда не лгали друг другу. Никогда — из лицемерия или трусости — не прибегали ни к недомолвкам, ни к чрезмерной деликатности. Паскуале всегда говорил мне то, что считал своим долгом сказать. Я отвечала ему тем же — очень открыто и прямо, иногда даже слишком.
Лукино Висконти… Эта глава имеет отношение не только к моей карьере и моей работе. Лукино был и навсегда останется частью моей жизни — он в моих мыслях, воспоминаниях, снах. Я ощущаю его присутствие вполне конкретно и материально — в моем сегодняшнем лице и манере смотреть, в моих руках… Потому что во всем, а этого «всего» очень много, чему он меня научил, было и остается сознательное отношение к собственному телу, ногам, плечам, рукам, глазам. Он научил меня управлять всем этим. Он, если можно так сказать, вернул мне мой взгляд, улыбку. Именно на его требования я ориентируюсь, когда говорю, думаю, плачу, кричу или смеюсь перед кинокамерой.