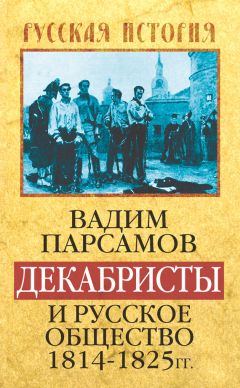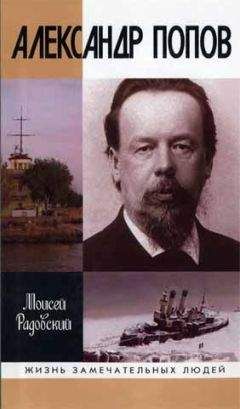Наступление русской армии от Тарутино до Березины мемуаристы описывают, в общем, одинаково, останавливаясь, как правило, на деталях операций. В целом характер войны ими был уже понят. Понимая войну 1812 года как отечественную и народную, декабристы видели главную причину победы в том едином патриотическом духе, которым был охвачен весь народ. Уяснение этого мешало декабристам принять, с одной стороны, официальную версию о решающей роли царя и дворянства в войне, а с другой – французскую версию о решающей роли мороза.
С. Г. Волконский в своих «Записках» приводит разговор, который состоялся у него с Александром I в 1812 г.:
«Тут он мне сделал следующие вопросы:
1-й. Каков дух армии? Я ему отвечал: “Государь! От главнокомандующего до всякого солдата все готовы положить свою жизнь к защите отечества и вашего импер[аторского] величества”.
2-й. А дух народный? На это я ему отвечал: “Государь! Вы должны гордиться им; каждый крестьянин – герой, преданный отечеству и вам”.
3-й. А дворянство? “Государь! – сказал я ему, – стыжусь, что принадлежу к нему: было много слов, а на деле ничего”»[150].
Идея народной войны и решающей роли русского народа в победе над Наполеоном становится основной в декабристском понимании войны. Такая концепция позволяла сместить угол зрения с военного на моральный характер войны. Понимая, что военные операции русского командования далеко не самая сильная стороны в кампании 1812 года, декабристы воодушевлялись идей войны как общенародного дела. Война мыслилась ими как обретение Отечества, а поскольку, согласно известной формуле, «у рабов нет Отечества», то прямым следствием Отечественной войны стали поиски путей гражданского переустройства России.
Глава вторая
«Мы все глядим в Наполеоны»
В политической мифологии начала XIX в. Наполеон играл исключительную роль. Вряд ли в европейской культуре того времени можно обнаружить более мифологизированную фигуру. Наполеоновский «миф» располагается на различных этажах культурного сознания. «Многие писатели Европы и России первой трети XIX в. в стихах и в прозе создают свой вариант наполеоновского мифа (Байрон, Мандзони, Ламартин, Гюго, Беранже, Лермонтов, Вяземский). Пушкин и Стендаль входят в ряд самых значительных творцов мифа»[151]. Исследователи рассматривают его, как правило, в виде нарративной структуры[152]. По верному замечанию Л. И. Вольперт, «ему свойственно сочетание легенды и факта, принимающее нарративную форму (образ, сюжет, композиция), характеризующееся такими категориями, как анонимность, повторяемость, цикличность, тенденциозность»[153]. Фактически изучению подвергается не миф как таковой, а его проекция в повествовательные тексты.
Декабристская литература, хотя и нередко обращается к наполеоновскому «мифу», тем не менее не является значительным этапом в его становлении. В большинстве случаев декабристы лишь эксплуатируют готовые штампы либо массового сознания, либо высоких образцов поэзии. Значительно интересней проследить, как функционирует наполеоновский «миф» в парадигме культурно-политического сознания декабристов. Поэтому объектом рассмотрения будет не содержательная сторона мифа, а способы его выражения.
Любой культурный миф может быть рассмотрен в двух аспектах: как natura naturata и как natura naturans. В первом случае миф связывается с его создателем и понимается как постоянно творимое пространство, во втором – миф представляет собой структуру, порождающую определенные модели сознания, дискурса, поведения и т. д. В прагматическом плане наполеоновский «миф» может быть соотнесен как с его творцами, и тогда он воплощается в некоем нарративе, в котором сам Наполеон выступает в качестве актанта, т. е. действующего или характеризуемого лица, так и с его реципиентами, т. е. включаться в определенную парадигму восприятия. Здесь сам Наполеон может рассматриваться как предикат, т. е. обязательно связываться с каким-либо иным субъектом как суждение о нем. Так, например, высказывание Наполеон – это Аттила характеризует именно Наполеона и изначально принадлежит творцу мифа, а Пестель – это Наполеон характеризует именно Пестеля и принадлежит реципиенту наполеоновского мифа. Политическая культура декабризма связана в большей степени со вторым моментом, чем с первым.
Политическое пространство вообще отличается повышенной мифологенностью. В нем все строится по принципу тождества. Любой поступок, жест или высказывание политика, рассчитанные на массовую аудиторию, неизбежно соотносятся с уже имеющимися в ее сознании стереотипами. Так, например, Пестель при встрече с Рылеевым в 1824 г., для того чтобы понять, с кем он имеет дело, начал манипулировать различными политическими мифами, видимо рассчитывая на то, что его собеседник, сбитый с толку, случайно выскажет свои политические амбиции. «Помню только, – писал Рылеев в следственных показаниях, – что Пестель, вероятно желая выведать меня, в два упомянутые часа был и гражданином Северо-Американской республики, и Наполеонистом, и террористом, то защитником Английской Конституции, то поборником Испанской»[154].
Особую роль в политической мифологии играет внешнее сходство. Трудно сказать, что больше повлияло на представление о Пестеле как об опасном честолюбце – его идеи или внешнее сходство с Наполеоном[155].
Наполеоновский «миф» сопутствует декабризму с момента зарождения движения и вплоть до возвращения декабристов из Сибири. Во время войны 1812 года он соотносится с идеей народной войны. За антитезой Наполеон – русский народ отчетливо просматривается структура более древнего тираноборческого мифа: тиран похищает народную свободу, и народ, ниспровергая его, возвращает ее себе. При этом народ мыслится не как совокупность простых людей, а как единое тело, как коллективная личность или как организованное общество, отечество и т. д.[156] Неслучайно у Ф. Н. Глинки понятия народная война и отечественная война выступают как синонимы. Такое понимание народа восходит к просветительской философии XVIII в. и в общем соответствует тому, что Руссо называл personne morale[157]. Народ и отечество в изображении Глинки являются воплощением руссоистской идеи общей воли, не только ставящей интересы народного целого выше индивидуальных устремлений, но и практически полностью исключающей их. По словам Глинки, «в отечественной войне и люди ничто!»[158].