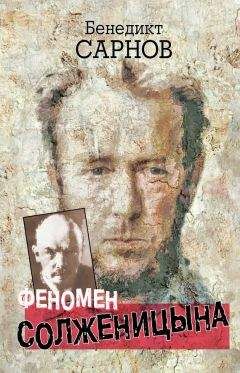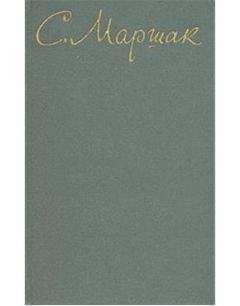(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 367–368)
Но он не уехал. Ни в тот день, ни на следующий.
И дядя оказался не так прост, как это ему сперва показалось, и эта, поразившая его своей убогостью, унылая повседневность дядюшкиного быта. Особенно так поразившие его эти старые, во много слоев зачем-то навешанные повсюду, пожелтевшие пропыленные газеты. Оказалось, что и они тут были навешаны неспроста, а с умыслом, с неким дальним прицелом.
...
Темноватый, с неукрашенными стенами, голый и скупой дом их стал уютней, когда закрыли ставни, – успокоительное отделение от мира, потерянное нашим веком. Каждая ставня прижималась железной полосою, а от неё болт через прорезь просовывался в дом, и здесь его проушина заклинивалась костыльком. Не от воров это надобилось им, тут бы и через распахнутые окна нечем поживиться, но при запертых болтах размягчалась настороженность души...
Раиса Тимофеевна рано ушла спать, а дядя в средней комнате, тихо двигаясь и тихо говоря (слышал он тоже безущербно), открыл племяннику ещё одну свою тайну: эти жёлтые газеты, во много слоев навешанные, будто от солнца или от пыли, – это был способ некриминального хранения самых интересных старых сообщений. («А почему вы именно эту газету храните, гражданин?» – «А я её не храню, какая попалась!») Нельзя было ставить пометок, но дядя на память знал, что в каждой искать. И удобной стороной они были повешены, чтобы каждый раз не разнимать пачку.
(Там же. Стр. 372)
Этот гипотетический дядюшкин диалог с чекистами, которые, глядишь, вздумают его посетить («А почему вы именно эту газету храните, гражданин?» – «А я её не храню, какая попалась!») вызвал у меня в памяти такую историю, которую моему другу Леониду Зорину рассказал Леонид Осипович Утесов. (Очень коротко, – буквально пятью строчками, – история эта приводится в книге Л. Зорина «Авансцена». Но я попытаюсь пересказать её так, как услышал: в устном изложении она почему-то произвела на меня более сильное впечатление).
Леонид Осипович был близок с Бабелем. И у него хранилось множество – что-то около двухсот – совершенно поразительных бабелевских писем. Когда Бабеля арестовали, в приступе отчаянного страха он все эти письма сжег.
Потом, конечно, горько раскаивался. И однажды рассказал об этом Николаю Робертовичу Эрдману.
Выслушав его, тот сказал:
– Да, вы сделали глупость, Ледя. Ведь если бы ОНИ к вам пришли, нашли бы они у вас эти бабелевские письма или не нашли, не имело бы уже никакого значения.
Далеко не глупый и кое-что повидавший на своём веку дядюшка Иннокентия тоже мог бы сообразить, что если уж чекисты к нему нагрянут, никакие объяснения и отговорки ему уже не помогут.
Что поделаешь! На всякого мудреца довольно простоты.
Но для того, чтобы установить взаимопонимание с нежданно посетившим его племянником, эти старые пожелтевшие газеты очень даже пригодились.
...
Ставши на два стула рядом, дядя в очках, они над печкой прочли в газете 1940 года у Сталина: «Я знаю, как германский народ любит своего фюрера, поэтому я поднимаю тост за его здоровье!» А в газете 1924 года на окне Сталин защищал «верных ленинцев Каменева и Зиновьева» от обвинений в саботаже октябрьского переворота.
Иннокентий увлёкся, втянулся в эту охоту, и даже при слабой сорокаваттной лампочке они бы долго ещё лазали и шелестели, разбирая выблекшие, полустёртые строчки...
(Там же)
Ну, а когда взаимопонимание было установлено, тут дядюшка уже во всю ивановскую ринулся просвещать ещё полуслепого племянника, открывать ему глаза:
...
...спать не хотелось. И в третьей маленькой комнатке, где Иннокентию было постлано, а дядя сел к нему на постель, они шёпотом ещё часа два проговорили с захваченностью влюблённых, которым не нужно освещения для воркотни.
– Только обманом, только обманом! – настаивал дядя. В темноте его голос без дребезга ничем не выявлял старика. – Никакое правительство, ответственное за свои слова... «Мир народам, штык в землю!» – а через год уже «Губдезертир» ловил мужичков по лесам да расстреливал напоказ! Царь так не делал... «Рабочий контроль над производством» – а где ты хоть месяц видел рабочий контроль? Сразу всё зажал государственный центр. Да если б в семнадцатом году сказали, что будут нормы выработки, и каждый год увеличиваться, – кто б тогда за ними пошёл? «Конец тайной дипломатии, тайных назначений» – и сразу гриф «секретно» и «совсекретно». Да в какой стране, когда знал народ о правительстве меньше, чем у нас?..
И – ещё об этой последней, советско-германской. Как ты её понимаешь?
Легко говорилось! Иннокентий как привычное свободно формулировал такое, до чего без диалога никогда не доходила надобность:
– Я так понимаю: трагическая война. Мы родину отстояли – и мы её потеряли. Она окончательно стала вотчиной Усача.
– Мы уложили, конечно, не семь миллионов! – торопился и дядя. – И для чего? Чтобы крепче затянуть на себе петлю. Самая несчастная война в русской истории...
И опять – о Втором съезде Советов: он был от трёхсот совдепов из девятисот, он не был полномочен и никак не мог утверждать Совнарком.
– Да что ты говоришь?..
(Там же. Стр. 372–373)
И тут вдруг – казалось бы, ну никак нельзя было предвидеть такого поворота, – неожиданно ворвалась в этот дядюшкин «урок истории» совсем другая тема:
...
Уже по два раза «спокойной ночи» сказали, и дядя спрашивал, оставить ли дверь открытой, душновато, – но тут про атомную бомбу почему-то всплыло, и он вернулся, шептал яро:
– Ни за что сами не сделают!
– Могут и сделать, – чмокал Иннокентий. – Я даже слышал, что на днях будет испытание первой бомбы.
– Брехня! – уверенно говорил дядя. – Объявят, а – кто проверит?.. Такой промышленности у них нет, двадцать лет делать надо.
Уходил и ещё возвращался:
– Но если сделают – пропали мы, Инок. Никогда нам свободы не видать.
Иннокентий лежал навзничь, глотал глазами густую темноту.
– Да, это будет страшно... У них она не залежится... А без бомбы они на войну не смеют.
(Там же)
Эта тема всплывает в романе постоянно. Она проходит через все повествование, как принято говорить в таких случаях, красной нитью .
Посмотрим же, – попробуем проследить, – куда ведет нас эта «красная нить».
Самый близкий автору из героев романа Глеб Нержин (alter ego автора) – из всех своих товарищей по «шарашке» особо выделяет дворника Спиридона. Именно ему он отдаёт (дарит на память) перед этапом любимую свою, с трудом выдранную из лап «кума» книжечку Есенина (взять её с собой на этап ему не дадут). Спиридон для Нержина (а стало быть, и для автора) – носитель вековой народной мудрости, живого народного сознания, единственной (опять же народной) и потому единственно истинной системы нравственных понятий и ценностей. В общем, этакий современный Платон Каратаев.