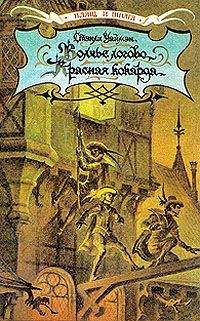— Рахиль Абрамовна! — Из-под седых усов блеснули золотые зубы; розовое лицо Самуила Иосифовича озаряется самой любезной из его улыбок. — Добрый вечер, здравствуйте. Опять за слабительным для супруга или лосьон уже кончился?
— Ах, нет… Совсем не то… Мне нужен яд.
Густые, словно наклеенные, седые брови Самуила Иосифовича подпрыгивают высоко над очками.
— Яд? Не хочет ли наша постоянная покупательница покончить расчеты с жизнью? — И провизор смеется — так нелепо подобное предположение: молодая, здоровая, красивая, богатая, счастливая жена интересного мужа.
Но, увы, как ни нелепо высказанное предположение — оно попадает не в бровь, а в глаз. Рахиль Абрамовна смущена, почти уничтожена. Но провизор хохочет, такой забавной кажется ему шутка, — он ничего не видит. И Рахиль Абрамовна овладевает собой.
— Мне нужен яд против крыс, — говорит она. — Вы понимаете, вот сейчас только… Я сижу у себя в будуаре, и выбегает крыса. Огромная!
— Вот такая, — разводит руками Самуил Иосифович. — С небольшого волка…
— Нет, право, очень большая! Ужасная!
— Понимаю, понимаю! Вам нужен мышьяк.
— Да, да, именно мышьяк!
— Тек-с, но я не могу отпустить вам мышьяку без рецепта врача!
— Боже мой! Но ведь я никому не скажу, что вы дали мне этот яд. К тому же мы сейчас одни. И мне совсем немножко нужно мышьяку… на одного человека!
Брови провизора опять взлетают на лоб.
— Как на одного человека?
— То есть я хочу сказать — на одну-две крысы. Я же ваша постоянная покупательница!
— Гм! — на розовом, откормленном, уже стариковском лице Самуила Иосифовича нерешительность, колебание. — На одну— две крысы, говорите?
— Да, да! — в голосе Рахили Абрамовны мольба, надежда. — Да, да, на одну, две, самое большее — три крысы. Они у нас только что появились! Но скажите, мышьяк очень сильный яд?
Самуил Иосифович готов обидеться: сомневаются в актуальности действия мышьяка — какая необразованность! И он не без возмущения говорит:
— Что за нелепый вопрос! Мышьяк! Сильнее, надежнее нет яда. Разве вы не читаете газет? Третьего дня один отравился. Репортер великолепно сравнил действие мышьяка с палящим ожогом расплавленного олова, влитого в желудок. Но я вам скажу — репортер снизил эффект. Мышьяк страшнее, мучительнее расплавленного металла. Тот убивает скорее, мышьяк же… Но так и быть, я вам отпущу полграмма мышьяка. Только умоляю будьте с ним осторожнее!..
Рахиль Абрамовна ни жива ни мертва, лишь только провизор умолк, она пискнула:
— Самуил Иосифович!
— Что-с?
— Мне страшно!
— Отчего-с?
— Такое ужасное действие яда!
— Да уж будьте покойником!
— Как? Что вы говорите?
— Говорю: будьте покойны.
— Мышьяк будет жечь им внутренности. Пусть лучше, — барыня всхлипывает, — безболезненно заснут навеки.
Наконец-то Самуил Иосифович настораживается. Он внимательно всматривается в прекрасные глаза Египтянки; он своими выцветшими буркалами заглядывает в них, как в два бездонные колодца. Его честную провизорскую душу охватывает страх.
И он возвращается к страшному шкафу с ядами, ставит банку с мышьяком на прежнее место и снова торопливо семенит к стеклянному прилавку. С той его стороны он некоторое время изучает прекрасное лицо покупательницы ядов и затем опять удаляется вглубь своего аптекарского святилища.
Он, Самуил Иосифович, теперь невидим, но слышен: он в глубине аптекарской лаборатории чем-то звенит, что-то наливает или переливает. Еще несколько минут — и Самуил Иосифович возвращается к стеклянному прилавку со стаканчиком в правой руке.
Лицо Самуила Иосифовича торжественно-строгое, жидкость же в стаканчике опалово-мутна и благоухает сладким и острым запахом валерианы.
— Выпейте вот это, — говорит он, протягивая Рахили Абрамовне успокоительное питье. — Выпейте и сейчас же идите домой, иначе я позвоню вашему мужу. Я знаю номер вашего телефона…
— Не желаю я вашей валериановки! — строптиво возражает Рахиль Абрамовна. — Не хотите дать веронал, так я его в другом месте достану. А звонить моему мужу можете, я даже буду этому рада!
И пока аптекарь, растерявшись, мечется за своим прилавком, она выбегает из аптеки.
* * *
Уже одиннадцатый час ночи.
Очередная литературная пятница у господ Вавилонских закончилась, и посетители салона расходятся. В прихожей — тесно, давка почти. Пахнет шубами, мехом и духами. Многоголосииа одевающихся и уходящих людей все-таки не заглушает сочного баритона пожилого хозяина, продолжающего доказывать профессору с мировым именем, что экспрессионизм все-таки не только литературная школа, но целое мировоззрение, определяющее общие устремления эпохи. Лицо у профессора — томное, скучное; он уже высказался публично по данному вопросу, и если кто-либо его не понял, не оценил блеска его эрудиции и красноречия — так ему же хуже. Убеждать персонально в правоте своих драгоценных слов господина Вавилонского профессору не к чему.
— Пардон! — из столовой, где происходило собеседование, Ленька Ещин протискивается в прихожую.
Сколько здесь оголенных плеч и рук, которым мужья и кавалеры предлагают спрятаться в теплый, благоухающий духами, ласковый мех!
— Пардон, пардон, я ваша тетя! — Ленька протискивается к вешалке и отыскивает на ней свое истасканное осеннее пальто.
Теперь он может уже уйти, но страх перед холодом январской ночи заставляет его медлить, не хочется расставаться с этой комнатой, такой теплой и надушенной…
К тому же, есть в голове Леньки и «задняя» мысль: он слышал, что многие из этих господ уговаривались после собрания ехать в ресторан ужинать. Ленька надеется, что и его, быть может, пригласят, — ведь он так хорошо читал стихи, свои и Блока, и ему дружно аплодировали. Может быть, за это…
Но господа, поддерживающие под локоть своих дам, один за другим проходят мимо Лени. Он уже забыт, им не до него, плохо одетого, нищего, за которого надо платить. После тощих тартинок с краковской колбасой желудки этих господ властно потянуло к шашлыкам и азу по-татарски в уютном «Алла-Верды».
Что этим упитанным, эстетствующим горожанам до Леонида Евсеевича Ещина, захудалого каппелевского капитана!
И Ленька вышел, Ленька пошел по пустынному переулку оголенными садами по обеим его сторонам. Из глубины этих садов еще желтели освещенные окна солидных особняков богатых железнодорожников. А черное небо над переулком сияло яркими январскими звездами с прекрасным Юпитером, склоняющимся к горизонту.