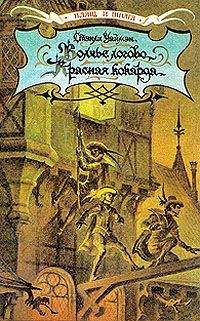* * *
Чтобы подольше сохранить тепло, которое вобрало в себя его пальтишко, вися на вешалке у Вавилонских, Ленька сразу же взял «аллюр три креста».
И теплу, которое выделили его энергично заработавшие мышцы, на некоторое время удалось побороть холод январской ночи. Леньке стало даже весело.
«Разве я виноват, что я умнее их всех? — думал он, пожимая острыми плечами. — Битых три часа разговора о предмете, который им совершенно чужд. Экспрессионизм!.. Эндшмидт, Тамерлан, Франсуа Вийон, — уменье ярко и полно изжить себя! Боже мой, и об этом говорят барыньки, которые, выйдя замуж и наскучивши радостями законного супружеского ложа, изживают свою неудовлетворенность в адюльтере. Их мужья?.. Они не в силах прельстить самку ни дерзостью, ни силою. И вот они, эти выхолощенные самцы выступают на диспутах, грассируют, кокетничают, подобно пузатому на тонких ножках Вавилонскому, говорят пошлости о мучениках, вступивших в борьбу с роком, о кровавых их драмах… Потому-то я и молчу на их собраниях: мне стыдно за них!..»
Так рассуждая, Леонид поднимался на горб виадука, под которым проходили железнодорожные пути, соединявшие захудалый город, в котором судьба принудила его жить, с навеки милой его сердцу, родной Москвой. Но именно здесь ледяной ветер, тянувший с севера, стал острее, жестче. И этот ветер свеял последнее тепло жилья Вавилонских, унесенное Леонидом под ветхою тканью его пальтишка.
Леонид Евсеевич Ещин стал замерзать.
Он попробовал было еще увеличить скорость своего аллюра, перевести его на бег, но это оказалось уже ему не под силу.
Всё же Ещин не сдался. Его сердце никогда не согревала ни вера в Бога, ни любовь к женщине, только хорошие стихи поднимали работу его сердца. И Леонид Ещин стал в маршевом темпе декламировать стихи Вийона, выученные им к сегодняшнему вечеру:
Нас буйный дождь пронизывал насквозь,
И солнце жгло тела людей преступных,
И воронье в нас алчное впилось,
Справляя пир на наших язвах трупных.
И нет уж нам покоя ни на час!
В порывах ветра, в клювах неотступных
Качаемся, чудовища без глаз,
Потрепанней, дырявей старых платьев!
Да, братья, нас не бойтесь, но за братьев
Молитесь, чтобы Бог простил всех нас!..
Ленька шел, громко скандируя стихи, написанные поэтом— бродягой пять столетий тому назад. Китайский полицейский на углу — Ленька, твердо отбивая шаг, проходил мимо него — уверенно подумал: козула (пьяный), и, чтобы не связываться с пьяным, отвернулся.
А Ленька — маршировал. Когда эти стихи были прочитаны, он вспомнил другие, тоже о повешенных, но более дерзкие:
Родился я французом, ах, это жаль, ей-ей,
К тому же парижанин я до мозга костей.
Вот скоро горло стянет веревка метра в два,
И сколько зад мой весит, узнает голова!
Холодный ветер бил в лицо Леньке, но он отражал его нападения стихами Франсуа Вийона, поэта-бродяги — не меньше, чем Ещин, измученного тремя десятками лет своей горемычной жизни.
Между ними лежала половина тысячелетия, но как ни страшен был своей огромностью этот поток пролетевшего времени — он ничего в мире не изменил. Все-таки мороз, одиночество и тоска заброшенности, покинутости — осилили и Леню Ещина, как в свое время они осиливали бедного Франсуа.
* * *
Все-таки мороз осилил Леньку, загнал его в «Щель», в ресторанчик старого носатого грека — выпить стаканчик. «Щель» и была щелью — двухаршинным пространством между двумя дом ми, приспособленным под харчевню-забегаловку.
Грек, как всегда, молчалив; трое его русских посетителей — разговорчивы, возбуждены выпитым, ярко-краснорожи. Все они видимо, приятели, разговор — общий: о достоинствах и примечательных качествах какой-то Люськи.
Эти меднорожие мужчины, кажется, шоферы, здоровенные парни. Люська, которую они «обсуждают», им всем известна досконально, все примечательности ее они описывают столь картинно, что и Леньке становится ясно, о какой именно из харбинских ресторанных Люсек идет речь.
В «Щели» после ледяного январского мороза поэту кажется как в раю; два стаканчика водки, один проглоченный залпом, а другой в два приема, согрели тело до самого нутра. Хорош оказался и карасик в сметане, поданный греком на стол прямо на сковородке.
«Да, Люська! — думал Ещин, соображая в то же время, не заказать ли еще стаканчик, третий, и еще карасика. — Люська! Вот эти антропоиды смеются над ней, пакостно говорят. А ведь каждого из них она согревала теплом своего тела, а что животворнее женского тепла? Каждый из этих идиотов находил у этой Люськи то, чего не мог отыскать у собственной жены. Иначе зачем он шел к Люське, изменяя супружескому ложу? Ах, после этого мороза, из ледяного ада ночной январской улицы в тепло мягкой постели, нагретой женским телом, в аромат этого тепла, под ватное одеяло, в нежность женского объятия!..»
Парни встали, расплатились, ушли.
Старый грек поднял на Леню грустные глаза. Сказал, произнося «Ч» как «Ц»:
— Сейцас закрываю.
— Дай еще стопочку. И карася.
— Нет карася.
— Ну, что-нибудь другое горячее.
— Ничего нет.
Встал и Ещин.
И вот опять мороз, сразу согнавший призрачное тепло, навеянное алкоголем. Даже идти быстро теперь не хотелось: мерзнуть так мерзнуть!
И думалось горько:
— И вот говорят, что женская душа чутка к стихам, к поэзии. Нет, это ложь! Разве я плохие стихи пишу и разве я не великолепно декламирую, а ведь ни одна девушка, ни одна женщина меня за горькую музу мою не полюбила. За красивую морду, когда моложе был, любили, любили и за бравый офицерский вид… Всё это ерунда собачья, и не надо верить, когда девчонки говорят: «Ах, я ужасно люблю стихи!» Врут! Что они в действительности любят? Что? Например, хорошо выглаженные штаны, уменье плясать. Надо очень страдать, надо, как и каждый поэт, быть отщепенцем, чтобы полюбить хорошие стихи. Потому-то Толстая Марго, кабатчица, проститутка, воровка, так нежно и любила пятьсот лет тому назад бедного школяра Франсуа Вийона…
Тут-то Ленька и увидел Рахиль Абрамовну. Поднялись ресницы и опустились — на поэта блеснули огромные глаза.
Женщина, в столь поздний, ледяной час сжавшаяся на приворотной скамье под тусклым фонарем с номером дома на стекле; женщина, явно замерзающая, ибо, остановившись, Леонид услышал, какую дробь выбивали ее зубы. Поэт не мог равнодушно пройти мимо…
— Сударыня! — сказал он.