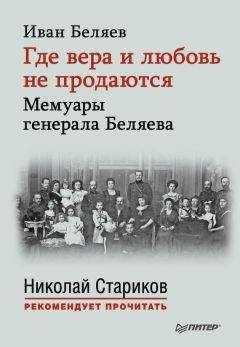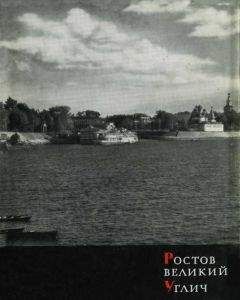«Это было в 1972 году, за два месяца до его смерти, — писала Ханка. — 28 сентября на рассвете я позвонила в парадную дверь кв. № 2 дома № 7 по улице Кройцвальди в Таллинне. Рука у меня дрожала от волнения. Около 35 лет я не видела моего учителя, с которым почти все время переписывалась. Я уже — пенсионерка, убеленная сединой, каков же он — мой 85–летний учитель? Кто откроет мне дверь? Но вот — дверь отворилась, и передо мной Он — мой старый мудрый „четырехглазый“ учитель. Ростом стал ниже, морщин побольше, но голос бодрый и радостный. Возглас: „Ханочка, это ты? Наконец‑то!“ Этот день останется для меня памятным до конца дней моих. Мы целый день вспоминали. Было о чем вспомнить: счастливые дни моей юности под его руководством, когда он находился в расцвете творческих сил, суровые годы войны, погибших родных и друзей. Он смотрел на меня незрячими открытыми глазами сквозь свои двойные очки и спрашивал: „Какая же ты теперь, Ханочка? Я ведь не вижу тебя и представляю такой, какой ты была 40 лет назад“. А затем предложил записать на магнитофонной пленке наш разговор, чтобы иметь возможность „послушать твой родной для меня голос“…»
С поправками и замечаниями Ханки Бурдо я передал черновую машинопись для перепечатки набело.
* * * * * *
Очерк «На заре» — так озаглавил его отец — должен шокировать нынешнего читателя по меньшей мере дважды.
О первом и главном шоке — позднее, а сначала — о стиле.
Часто кажется, что это отчет, написанный для некой руководящей инстанции — разумеется, советской. Скажем, для наробраза — это колючее слово, гибрид нар, робы и дикобраза, вечно звучало в доме моего детства и означало «отдел народного образования». Почему отец, прекрасно владевший живым и острым письмом, то и дело впадал в эту официальную, «клякспапирную», как сказал бы Гейне, манеру — трудно сказать. Впрочем, есть в «Очерке» прекрасно изложенные эпизоды и сочные характеры, и не так уж мало. Но отцу важно было не столько рассказывать, сколько изложить принципы школы, собственно история ему мешала, и он хотел побыстрее с нею управиться — или привести ее к дезиндивидуализированной принципиальной схеме. К тому же ему было важно, чтобы его поняла советская власть брежневской эпохи, чтобы она как‑то запомнила его педагогический опыт. Ему казалось, и не только ему, и не без оснований, что эта склерозированная система — на много поколений.
Стирание уникального, персонального начала я вижу и в том, что о себе самом он писал нейтрально — «руководство», «заведующий», в крайнем случае — М. Б. Местоимение первого лица единственного числа в рукописи надо специально выискивать, можно подумать, что такая грамматическая форма в русском языке редкость. Поэтому, думаю, он не включил в «Очерк» почти ничего из писем учеников — там было много от реальности, но отслоить их рассказы от его личности было бы невозможно.
Вот отрывок из письма военных лет:
«Дорогой отец, бушует война, трудно мне сейчас с осиротевшими тремя малышами. Но я вспоминаю Вас, Вашу науку преодолевать трудности, и в этих воспоминаниях нахожу источник силы. Вспоминаю 1920 г., когда мы жили на бывшей барской разрушенной даче, и Вы с ребятами на своем горбу таскали мешки с крупой для нас, голодных сирот. Как сейчас вижу Моисея Яковлевича Баска[4], который впрягался в телегу вместо лошади и вез с ребятами воду в бочке. Рядом с ними были Вы, Вера, Надежда и Любовь…»
Подписано — Л. H., не знаю, как ее звали.
«Я помню Ваши посещения больницы, когда я болел тифом, Вашу ласку и заботу обо мне. Быть может, я и не выжил бы, если бы не Вы».
Это Флейшер, учитель, кончил войну подполковником, был директором школы в Днепропетровске; с ним отец дружил и переписывался десятки лет.
Разбавим напряжение. Пишет Улановский, тоже солдат последней мировой войны, позднее профсоюзный деятель.
«Вспоминаю, как Вы как‑то зашли к нам в комнату общежития, где я жил с Дудником. Он в это время курил, но успел выбросить окурок. Вы, почувствовав запах никотина, намекнули: „здесь пахнет чем‑то посторонним“ — и, больше ничего не сказав, вышли из комнаты. С тех пор мы больше никогда не курили до самого ухода из общежития в самостоятельную жизнь».
Это о том самом Дуднике, с которым мы опознали друг друга в царственных залах Центрального Дома Красной Армии зимой 1944 года.
Дети и подростки, которые стали воспитанниками Еврабмола, почти везде в рукописи были названы «контингентами». Ханка, редактируя, кое — где зачеркивала казенное слово и писала сверху «ребята».
«Дорогой Моисей Борисович, Вы для меня, как сами понимаете, представляете особое явление в моей жизни. Я решился зайти к Вам за помощью в голодном 21–м году, потому что знал Вас по Мясоедовской, по клубу, где Вы меня похвалили за нарисованную мною мелом на доске собаку. Запомнили меня босоногого.
Для меня Вы — целая легенда.
Нас в семье осталось четверо голодных сирот. По Вашей записке я младших двух сестер отнес на плечах в Наробраз. Носил их поочередно почти голыми с самой Молдаванки до Греческой площади. А там долго плакал на лестнице, пока их не забрали машиной.
Я остался у Вас в „Еврабмоле“. Вы не только спасли нас, а вывели в люди, за что я всю жизнь Вам благодарен».
Это Натан Шипетин, московский художник. Еще один из «ребят», составлявших «контингенты».
Мудрому достаточно, чтобы сквозь точечное, как отверстие зрачка, наробразное слово увидеть жизни сотен детей, каждая из которых, как полагают отдельные гуманисты, есть целый мир, полный, единственный и неповторимый — как мир вокруг нас.
* * * * * *
Так вот, дальним предтечей Еврабмола был Клуб еврейского юношества, организованный в апреле 1919 года с тем, чтобы преодолеть уличную неприкаянность еврейских детей, для которых идиш был не только родным, но и единственным понятным языком.
После нескольких не вполне удачных проб клуб ожил, когда ребята, по свежей памяти, сочинили и разыграли спектакль из «старого быта»; они похоже и смешно представили хедер: учеников, ребе, его жену — ребецн, учителя русского языка, зубрежку, детские уловки, педагогические побои и прочее. В клубе их еще и подкармливали. Это там отец похвалил Шипетина за нарисованную мелом на доске собаку; похвала спасла три жизни.
Осенью пришли деникинцы, но клуб еще несколько месяцев продолжал жить — пока однажды ночью его не разгромили белые в поисках следов большевизма. Красноты не нашли, но клуб замер. Когда же пришли настоящие красные, он возродился.
Весной 1921 года в судьбе клубного народа произошел первый критический перелом. В голодной и разваленной Одессе эти подростки — не без подсказки руководителей и советчиков — решили прокормить себя сами. Сами, именно — сами: не быть иждивенцами, не просить, не ждать, а работать, а еще и учиться, выстраивать себя и свою жизнь собственными руками; организовать коммуну, артель огородников, товарищество, колхоз, киббуц… нужный словарь еще не был отчеканен. Назвали без затей — «Коллективом». Законы его построения, разработанные в клубе, были просты.