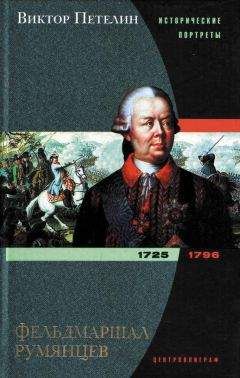И наконец, чисто «художественные» домыслы.
Под пером автора «заметок», подписанных Т. Толстой, я якобы изображаю замечательного русского советского писателя «злобным брюзгой», «вороватым» подсматривателем чужой жизни, «человеком с убогой фантазией». Все это остается на совести писавшего. Темперамент, желание во что бы то ни стало опорочить мой труд перехлестывает очевидность. Отсюда – «цитаты со взломом» из моей книги: оборванные, изуродованные, изувеченные. Отсюда – притягивание за волосы посторонних фактов, отсюда произвол оценок и обобщений.
А где же мой Толстой – патриот и гражданин, интернационалист и государственный деятель, разносторонний талант и советский человек? Об этом мы, конечно, в «заметках» ничего не узнаем.
Приведу страничку из моей книги «Судьба художника»: «Все это время, еще до выстрела в Сараево, Алексей Толстой жил какими-то неясными предчувствиями перемен. Внешне жизнь его складывалась благополучно. Он был принят всюду, везде ждали его произведений. Самые модные салоны Москвы и Петербурга, где бывали известные писатели, актеры, художники, политические деятели, открыли для него свои двери. И ничего удивительного: некоторым он импонировал как известный писатель, другим как граф, титулованная особа. Он бывал принят в салонах Е.П. Носовой, Г.Л. Гиршман, М.К. Морозовой, князя С.А. Щербатова, СИ. Щукина...
Как резко эти салоны отличались друг от друга. Сколько живых, колоритных черт и черточек для Алексея Толстого, наблюдений характеров, настроений, вкусов. Сколько здесь перед его глазами происходило смешного, сколько разыгрывалось драматических историй. А какие контрасты, какие противоречия... Евфимия Павловна Носова, сестра Рябушинского, любила иной раз упомянуть, что предки ее вышли из крестьян. А теперь стены и потолки ее дома расписывали Добужинский и Сомов. И вместе с этим здесь, в этом доме, было столько показной, безвкусной роскоши.
В салоне Генриэтты Леопольдовны Гиршман очень гордились портретами хозяйки и ее мужа, исполненными знаменитым Валентином Серовым, так рано умершим. Сколько раз Алексей Николаевич замечал в глазах хозяйки восторженный блеск, когда она демонстрировала свою знаменитую коллекцию живописи, скульптуры, графики. Но что прельщало ее в предметах искусства: их подлинная уникальность, художественная ценность или выгодное помещение денег?
Алексей Толстой мысленно перебирал многие былые встречи, разговоры. Сколько перебывало в его доме людей за это время. Артисты Большого и Малого театров... Яблочкина, Гельцер, Максимов... А сколько художников... И все интересные, вероятно, будущие знаменитости... Сарьян, Павел Кузнецов, Милиотти, Георгий Якулов... И еще художник Лентулов, в чьем доме он впервые встретился с буйным, непоседливым Владимиром Маяковским, который запомнился ему своей развевающейся крылаткой...» (с. 9).
А теперь приведу странички из воспоминаний С.И. Дымшиц: «...Если в Петербурге мы вращались почти исключительно среди людей искусства, то в Москве наши знакомства пополнились рядом людей, никакого отношения к искусству не имевших, но пытавшихся на него влиять и красоваться в его лучах. Это были буржуазные меценаты, содержавшие салоны и картинные галереи, устраивавшие литературные вечера, финансировавшие буржуазные издательства и журналы и старавшиеся насадить на Москве Белокаменной чуждые русскому искусству вкусы и традиции западноевропейского декаданса. Они приглашали нас на свои вечера в свои салоны, ибо Алексей Николаевич импонировал им и как стяжавший известность столичный писатель, и как титулованный литератор – граф. Меня они приглашали и как жену Толстого, и как художницу, картины которой к 1912 году стали появляться на выставках в Петербурге и Москве.
Алексей Николаевич принимал их приглашения потому, что вокруг них вращалось немало его коллег-литераторов. Таким образом мы побывали у таких меценатов, как Е.П. Носова, Г.К. Гиршман, М.К. Морозова, князь С.А. Щербатов, СИ. Щукин. Думаю, что визиты к ним не прошли бесследно для Алексея Николаевича как для писателя, что многие наблюдения, почерпнутые в этой среде, затем в определенном виде отразились в таких его произведениях, как «Похождение Растегина», «Сестры» или другие вещи, в которых показаны типы людей умирающего буржуазного мира.
Евфимия Павловна Носова была сестрой миллионера Рябушинского, в начале века субсидировавшего символистский журнал «Золотое руно», а в годы гражданской войны субсидировавшего белогвардейщину. Носова – женщина среднего роста, худая, костистая, светловолосая, с птичьим профилем – любила пококетничать тем, что предки ее выбились в купцы-миллионеры из крестьян. Салон ее был известен тем, что «мирискусники» Сомов, Добужинский и другие расписывали в нем стены и потолки. И все же в этих стенах и под этими потолками не было радостной атмосферы искусства, а царила безвкусная купеческая «роскошь».
Салон Генриэтты Леопольдовны Гиршман был поизысканнее. Висели портреты, написанные с хозяйки и ее мужа Серовым. Здесь не щеголяли показным богатством, было меньше позолоты и бронзы. Но и тут было ясно: живопись, скульптура, графика – все это демонстрировалось как предметы искусства, но все это являлось эквивалентом хозяйских миллионов. В эти предметы были помещены деньги, они – эти предметы искусства – в любое мгновение могли быть превращены в разменную монету» (Воспоминания об А.Н. Толстом. М.: Советский писатель, 1973. С. 84).
Ну, неужели не видно, насколько один текст отличается от другого! Зачем же выдавать «белое» за «черное» или наоборот? – «черное» за «белое»: принцип тут один и тот же – ввести в заблуждение читателя.
Рецензент язвительно упрекает автора «Судьбы художника» в том, что он, дескать, отказывает Алексею Толстому в творческом воображении, сводя весь творческий процесс к фиксации увиденного и пережитого. Вот уж неправда. Но послушаем нашего рецензента: «Петелинский Толстой не полагается на свое воображение. Он, как мы видели (это можно было увидеть только пользуясь недозволенными методами передержек и натяжек. Надеюсь, я достаточно мягко выражаюсь? – В. П.), подслушивает чужие тайны и лихорадочно записывает. Все, что удается ему создать значительного, – автобиографично. Случайные оговорки? Литературовед (вот опять. При чем здесь литературовед? При чем здесь литературоведение вообще? Я не писал литературоведческий труд! – В. П.) неудачно выразился? Нет, это концепция» (ВЛ. С. 178).
Теперь я приведу несколько цитат из своей книги: «Замысел «Касатки» возник под влиянием Марии Леонтьевны Тургеневой, которая поселилась у Толстого весною 1916 года. Начались разговоры, воспоминания, оживало прошлое. Только реальные события несколько потускнели, утратив первоначальную свежесть и остроту впечатлений. Им можно было дать другое толкование, выразить другие чувства, владевшие теперь самим автором. Во всяком случае необходима работа фантазии. Работая над «Касаткой», Толстой, может быть, впервые понял, что над пьесой только так и надо работать, день и ночь, не отрываясь, отказываясь от встреч с друзьями, от чтения интересных книг, от всего, что отвлекает. Не раз он уже замечал, что такой разрыв во времени может гибельно отразиться на сценическом произведении: обычно исчезает единство чувства и фантазии и уже невозможно восстановить повышенную настроенность, которая создает удивительное ощущение головокружительного полета с горы, когда не знаешь, приземлишься благополучно или разобьешься вдребезги. Именно такой «полет с горы» испытал Алексей Толстой во время создания «Касатки» (с. 86). Еще: «Потом брал листки «Петра» и начинал их перечитывать, все больше и больше загораясь идеями и замыслами. Листал приготовленные для работы книги, просматривал выписки и наброски, и все вновь оживало, становилось таким ясным и зримым, что бывало даже страшно за себя: откуда ж берутся такие силы и возможности. Указывая в своих воспоминаниях именно на эту черту творческого видения художника, К. Чуковский писал: «Его воображение дошло до ясновидения. Это поразило меня за еще год до того, как он окончательно свалился в постель. Я был у него, на его московской квартире, и он, не зажигая огней, импровизировал диалог между царицей Елизаветой Петровной и кем-то из ее приближенных – такой страстный, такой психологически тонкий, с таким глубоким проникновением в историю, что мне стало ясно: как художник, как ведатель души человеческой, как воскреситель умерших эпох, он поднялся на новую ступень. Это ощущал и он сам и, счастливый этим ощущением своего духовного взлета, строил грандиозные планы, куда входили и роман из эпохи послепетровской России, и эпопея Отечественной войны, и еще одна драма из эпохи Ивана IV.