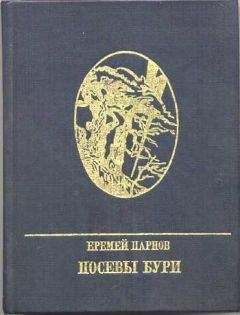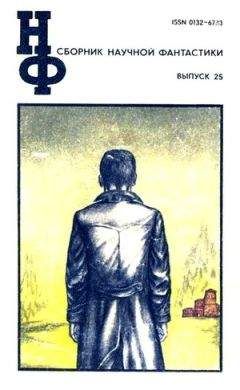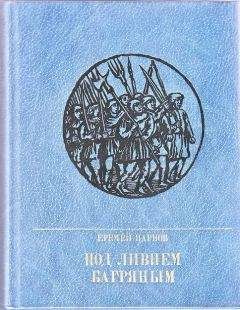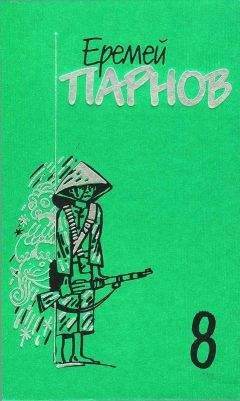Чудные карты, чужой город, чужая речь.
Все его усилия изгнать немецкий язык из повседневного обихода не дали почти ничего. По-прежнему капитаны речных пароходиков обращаются к пассажирам сначала по-немецки и лишь затем на латышском и русском. Немецкая кухня (отвратительный габерзюп, сосиски с кислой капустой), готические вывески, певческие ферейны и даже антиалкогольный клуб под синим крестом — все как на какой-нибудь Фридрихштрассе. Вместо дворянского собрания — ландтаг, вместо предводителя — ланд-маршал. Да какой! Кляузник, мерзейшего облика интриган! Даже разврат в этом городе, где извозчики — и немцы и латыши — наперечет знают все веселые дома, какой-то скупой, холодный. На тит титычей, проматывающих с мамзелями состояния, взирают с удивленным презрением. Все чинно, почти по-больничному гигиенично. Арфистки и те не приучены к трюфелям и редереру.
Впрочем, это вздор! Что город этот, с его непонятной жизнью и сомнительными удовольствиями, для труженика и примерного семьянина? Призрак. Сон. Спрятаться от неотвязного тоскливого зова за трехметровыми стенами. Замкнуться. Есть свой круг, пусть узкий, но верный, надежный. Служебные обязанности, наконец, общественно полезный и благородный, надо надеяться, труд. Или здесь тоже двойное дно? Иллюзия? Самообман? Всюду грызня, тайные интриги и недоброжелательство, мышиная, в сущности, суета. И самое страшное, что все усилия остаются втуне. Ничего не меняется. Есть лишь призрак власти, внешние ее атрибуты, рулевое колесо без руля. Что же делать, когда подспудное нарастающее течение увлекает все и вся к погибельным рифам? Всеобщее ослепление, неодолимый самоистребительный соблазн. Раздираемый враждой группировок и партий, Замок не способен управлять событиями. Как тяжелый, неповоротливый броненосец, влачится он позади. И город, непроницаемый, ускользает из рук, и неспокойная вся губерния.
В Майоренгоф бы, где серебряные пески и шелковистые ивы. В приятственный озноб надежного мелководья, когда солнце печет, а ветерок прохлаждает.
Но даже такой малости не может позволить себе узник Замка! После майских событий у Гертрудинской церкви, где произошла стычка демонстрантов с полицией, затаился недобрый город и ждет. Таинственные процессы в нем совершаются, неотвратимо назревает угрожающий срыв. Он совсем иной, тот хмурый и замкнутый город, растворившийся в небытии задымленных окраин, на задворках форштадтов и пустырях. За беленным известкой дощатым забором, за стенами из закопченного кирпича, за темными от смазки и пыли стекляшками лишь смутно угадывается его хмурый, ускользающий лик. О чем думают за железными воротами фабрик? Что готовят в низких бараках, где деревянные нары занавешены сырым тряпьем? Тускло расплываются в черных оконцах керосиновые огоньки. Тяжелым духом обдает влажный пар из бесконечного коридора. Больные чертополохи взросли под ганзейскими стенами, извечная смута бурлит в огненных капищах, где выковывается могущество империи. Грохот проката заглушает слова, ослепляет огненный блеск вагранок. Непонятно даже, на каком языке говорят эти тени — торопливые придатки могучих машин.
После того как на последней премьере горьковской пьесы в Улее с галерки опять полетели в партер прокламации, вопрос о языке отпал сам собой. Сличив экземпляры, отпечатанные кириллицей, латышской готикой и квадратным еврейским шрифтом, спецы из охранки удостоверились в полной аутентичности текста. Поток, затопивший на Первое мая Гертрудинскую, переполнил узкие берега профессиональной солидарности, перехлестнул незыблемые хребты родной речи, на которой не только говорят, но и мыслят.
Сначала губернатор не придал этому особого значения. Сам факт противоправительственных манифестаций был уже достаточно тревожен. Но полковник Волков быстро разъяснил ему истинное положение дел. То, что листовки, напечатанные на нескольких языках, говорят об одном и том же, означало нечто неизмеримо большее, чем просто стачки, демонстрации и лозунги, призывающие к свержению самодержавия. Очевидно, искровские агенты сумели взять верх и здесь, в Прибалтике. Их целенаправленная преступная воля возобладала над «особыми» условиями самых грамотных и процветающих губерний, над сепаратизмом и автономией национальных рабочих союзов. Невидимый, рассеянный по всему городу противник собирал силу в единый кулак.
И тогда губернатор впервые задумался над тем, что ранее отбрасывал от себя как ошибочное, ложное, недостойное просвещенно мыслящего человека. Модная идея о классовой полярности общества, которую он почитал деструктивной и разрушительной, предстала перед ним в совершенно ином свете. У нее обнаружилось мощное организующее начало. А коли так, коли язык классовой ненависти воистину интернационален, то неизбежна переоценка всех его, губернатора, взглядов. Если жажда разрушить пусть далеко не идеальный, но устоявшийся и способный к самосовершенствованию правопорядок может объединять, то почему должна пребывать в раздробленности прямо противоположная сила? Почему нельзя примирить интересы рыцарства и местных националистов из «Рижского латышского общества» — «Мамули», как ее насмешливо называет молодежь? Собрать воедино все здоровые силы?
Вспомнилась докладная об издевательствах баронов над батраками. Он поежился от отвращения, но тут же успокоил себя доводом, что отдельные, пусть даже весьма неприглядные, проявления не исчерпывают всей сущности, которая неизмеримо шире, значительнее. Нельзя же по скотским загулам ополоумевших от водки заезжих тит титычей судить, например, обо всем купечестве? Так ли уж несовместимы коренные интересы здешнего дворянства, деловых людей, государственной администрации? Противоречия, безусловно, существуют, и немалые, но разве перед лицом всеобщего хаоса и разрушения нельзя их несколько сгладить, приглушить? Если все эти эсеры, народники, эсдеки и анархисты — губернатор со студенческой скамьи не мог запомнить чем-то неприятные ему названия — сумели сплотиться, то уж порядочные люди, наверное, найдут общий язык.
Погруженный в себя, Пашков не мигая смотрел в окно, но не замечал, как надувается парусом и опадает вдруг, прилипая к стеклу, занавеска. Наконец глаза его заслезились, и он отвел взгляд. Задвинув ящик с карточной колодой, взял лежащую по правую руку папку.
Очень кстати! Дело этого Плиекшана как нельзя лучше подтверждает его мысль о том, что конечные цели всех благонамеренных граждан совпадают. Не далее как вчера ему передали из канцелярии петицию, подписанную ведущими представителями латышской общины. Они мечут против этого Плиекшана еще большие громы и молнии, чем немцы. Видно, здорово он им всем насолил! Вот вам, господа, и полное согласие взглядов! Да и чему здесь, собственно, удивляться? Немецкая партия и латыши из «Мамули» соперничают друг с другом за места в думе и дворянском ландтаге, но это честное соперничество благонамеренных людей. Не случайно же именно немецкий пастор Билленштейн возглавляет «Общество друзей культуры латышского народа»! Разве его, знатока и собирателя культурных ценностей, кто-нибудь рискнет обвинить в неуважении к древним традициям латышей, их самобытному творчеству? А ведь и он выступает с протестом против стихов, призывающих к ненависти и возмущению! Получается, что классовая поляризация действительно протекает? Притом весьма бурно! Отчего же тогда Серж защищает этого господина? Уж он-то, вне сомнений, человек беспристрастный и прозорливый. В том-то и вся сложность его, губернатора, положения, что должно ему стоять над всеми, быть выше мышиной возни. Классовая рознь, безусловно, является разрушительной силой. Ответственный администратор не должен делать на нее ставку. Необходимо противопоставить ей нечто иное, конструктивное, что могло бы сплотить всех без исключения членов общества. Прогресс — вот единственная возможность и надежда. Ведь даже анархисты не отрицают прогресса.