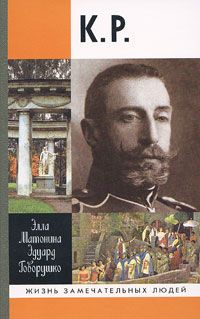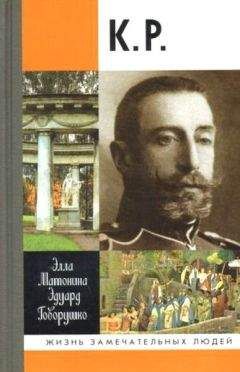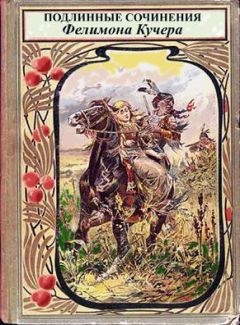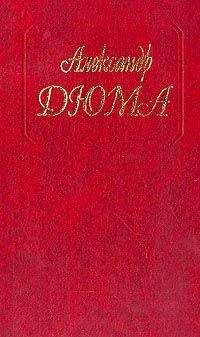Музыкальные субботники были организованы с определенной целью: поднять культурно-образовательный уровень сыновей К. Р., Олега и Игоря, и молодежи их круга. Князь Олег пишет о возникшей идее как бы со стороны и о себе говорит в третьем лице: «Всех участников было приглашено до сорока, причем было установлено, что никто из них не может быть только слушателем или, как говорили князья, „трутнем“: все должны, присутствуя на вечере, выступить исполнителями в качестве декламаторов, пианистов или певцов, по желанию. Князья следили строго за тем, чтобы это требование выполнялось участниками, и ему действительно подчинялись все. Даже Великий князь, почти всегда удостаивавший своим посещением „субботники“, принимал участие в чтении художественных произведений, а иногда сообщал неопубликованные материалы из переписки тех или других писателей». Лучшие силы Императорских и Малого театров принимали участие в Павловских вечерах. Сам Государь Николай II не пропустил ни одного представления.
Всем участникам была разослана программа. Чтобы сегодняшний читатель мог представить размах «проекта», приведем содержание нескольких дней:
«День первый: Достоевский, Щедрин. Музыкально озвучивают их [произведения] — Сен-Санс, Массне, Делиб, Годар, Лакомб.
День второй: Гончаров, Писемский. Озвучивают — Спонтини, Галеви, Берлиоз.
День третий: Гоголь, Гребенка, кн. В. Ф. Одоевский, Хомяков, Аксаков, Тютчев. Озвучивают — Шуман, Мендельсон».
Константин Константинович радовался энтузиазму сыновей, их спорам, возне в его нотной библиотеке, игре на фортепиано, похожей на грохот барабанов, беседам с музыкантами. И был благодарен Николаю Николаевичу Ермолинскому[73] за то, что тот взял на себя труд всё это организовать да еще отдать мероприятию свою квартиру.
А что же балы? При той ситуации, что сложилась в стране, они умерли сами собой. Да и Татьяне вскоре пришлось заказывать не бальное платье, а подвенечное. Благодатное время в череде последних лет, принесших семье Великого князя умиротворение, неуклонно шло к концу.
За неделю до Нового, 1911 года он стал думать о завещании…
СМЕРТЬ МАТЕРИ И ГЕНЕРАЛА КЕППЕНА
Весной 1911 года у Олега и Гаврилушки были экзамены в лицее. Они переходили с первого на второй курс. И хотя братья усердно молились, чтобы Бог помог им на экзамене, — ездили в Киевское подворье и в часовню Спасителя на Петербургской стороне, — все же римское право надо было самому долбить так, чтобы отскакивало от зубов. Отец так им и сказал.
Олег сидел у него в кабинете с учебником. Было уютно, тихо, спокойно. Мешало только воспоминание о профессоре Никольском. Завтра профессор будет изумлен — их знаниями или их провалом.
Отец встал из-за стола. Олега поражали его работоспособность и методичность. Заниматься он мог часами и бывал недоволен, если ему напоминали об ужине или вечернем чае.
— Когда второй экзамен? — спросил он.
— В день твоего ангела.
— Принес бы ангел мне здоровья, а вам полный балл.
Олег подумал, но не сказал, что они с Гаврилушкой «принесут» отцу серебряный портсигар. В подарок от Фаберже. Так уж они решили. Константин Константинович прошелся по кабинету, вздохнул:
— Когда заканчиваются праздники, начинаются печали…
— Почему печали, а не просто дни? — удивился Олег, считавший, как и все в семье, что отец — оптимист.
Великий князь помолчал, потом хитро улыбнулся:
— Потому что праздники — это просто дни.
Олег не понял отца. О каких он печалях? Неважно чувствует себя бабушка Александра Иосифовна? Но такое состояние у нее давно и стало для семьи привычным.
Вчера родители вернулись из Мариинского театра возбужденные, под сильным впечатлением от постановки оперы Мусоргского «Борис Годунов» и рассказали, что там произошло.
На представлении были Государь с дочерьми, вдовствующая Императрица Мария Федоровна, члены Императорского Дома. Пел Шаляпин. Всё шло своим чередом. Но вдруг после первого акта и аплодисментов снова поднялся занавес и все увидели оперных артистов, а среди них в царском старинном одеянии Шаляпина. Повернувшись к ложе, где сидел Николай II, все они запели «Боже, царя храни». Зал встал, как один человек, и запел. А Шаляпин и артисты опустились на колени. Раздалось оглушительное «ура». Константин Константинович и Елизавета Маврикиевна едва сдержали слезы. Но, как выяснилось, патриотический жест Шаляпина был всего лишь просьбой к Царю помочь материально хору, обиженному директором Императорских театров Теляковским.
Николай II, конечно, помог. Но петербургское общество посмеивалось, гневалось, было обескуражено этой манифестацией.
В год писания исторической драмы К. Р. был как-то особенно придирчив к современной ему литературе. И дело не в том, что раздражение порождали собственные творческие трудности. Всё, что происходило в стране — не устоявшееся, тревожное, конфликтное, — требовало, как ему казалось, успокаивающего голоса и призыва, «… нам так надо высоких примеров и совершенных образцов», — пишет он Кони. И поразительным образом не может разъединить жизнь и литературу, литературу и жизнь. А ведь К. Р. считал себя сторонником чистого искусства.
13 января 1911, Павловск.
«… Возвращаю Вам, милый Анатолий Федорович, „охапку навозной кучи без жемчужного зерна“ — не приберу другого названия новинкам якобы литературного творчества, которыми Вы пожелали поделиться со мною. Стихи Сологуба и безжизненны и гнусны так же, как и психопакость — виноват — психодрама В. Брюсова. А его „Последние страницы из дневника женщины“ просто чудовищны по цинизму не только порнографии, но и самых животных чувств, например, отношение к матери… А нам так надо высоких примеров и совершенных образцов…»
1 июня 1911. «… Дорогой Анатолий Федорович, у меня два Ваших письма… Приложенный № газеты с продолжением „Александра I“ Мережковского я прочел с отвращением, вполне присоединяясь к Вашему суждению об этой вульгарной попытке создать художественное произведение, которое дает только бесцветную, но не лишенную тенденции безвкусную фельетонную болтовню… Заметили ли вы в № 12 „Русского Слова“ рассказ „православного“ Леонида Андреева под заглавием „Покой“? Это еще образчик современной литературы. Смысл этой далеко не поэтичной и тривиальной фантазии решительно мне непонятен: к умирающему сановнику входит черт „под видом священника, ладана и свечей“ и предстает кончающему жить „во всей своей святой правде“?»