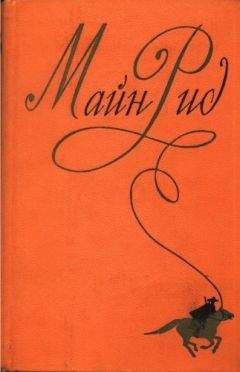Одного из таких «новообращенных» я и увидел в жестянке. Это был тот самый Паша, который не выдержал издевательств в БУРе и проглотил целую кучу разных железяк, чтобы хоть ненадолго вырваться в больничку. Он, правда, сделал это после того, как ему не удалось на прогулке зарезать своего главного мучителя. Но и тот тоже испугался: известно было, что Паша зарезать может. Паша был высокий, худой, страшно сутулый, почти горбатый. Было ему лет двадцать пять, а сколько он просидел — трудно сказать, ибо Паша, как и большинство обитателей лагеря, на свободе и не жил. Детство его, как и многих круглых сирот, прошло в приюте. Потом он попал в детдом для трудновоспитуемых — это обычный путь тех, кто растет в приютских домах. В таком детдоме детей на свободу не выпускают, порядок там почти тюремный, а безобразия такие, что и в лагерях не снились. После детдома Паша попал в колонию для малолетних, совершил там преступление, попал на общий режим, дотом на строгий. Три раза был в бегах на малолетке — это весь его опыт жизни на свободе. В побеге Паша шел все по лесам да по болотам, только воровать ходил в населенные пункты, так что совсем не имел никакого представления о том, как живут люди на свободе. При поимке Пашу не расстреляли, потому что он был несовершеннолетний. Паша был вор — смелый, злой и жестокий, но постоянная голодуха с детских лет надоела ему, и он начал воровать в лагере. Вначале он обокрал киоск — к чему все отнеслись снисходительно, ибо это имущество государственное, а не лагерников, потом он полез по тумбочкам. Несколько раз его ловили и жестоко избивали, но не насиловали, жалели, ибо парень он, по лагерным понятиям, был неплохой. Но в конце концов он доигрался. И после стал приниженным, заискивающе вежливым и еще более злым. Паша пил чифир из своей кружки, опустив глаза в землю.
— Как жизнь, Паша? — спросил я его.
Он пожал плечами, не поднимая головы.
— Скоро ли на свободу, Паша?
— Скоро, — сказал Паша. — Еще четыре года.
— Ну и что будешь делать?
— Воровать буду, — сказал Паша.
— Не надоело тебе сидеть?
— Куда денешься? Судьба. Что поделаешь, если мы такой несчастный народ.
— Что-то согнула тебя жизнь, — сказал я, подразумевая его сутулую спину.
— Вы не смотрите, что у нас грудь впалая, — ответил Паша, — зато спина выпуклая.
— А что бы ты сделал, Паша, если бы мы с тобой когда-нибудь встретились на свободе и ты бы узнал, что у меня есть 5000 рублей?
— Убил бы, — не задумываясь, сказал Паша.
— Из-за денег?
— Ну, а из-за чего еще? — удивился Паша. — Конечно, из-за денег.
— Но ведь жизнь человеческая…
— Ну и что? Зачем вы мне нужны? Зачем мне нужна жизнь человеческая? Что мне от нее проку? А на деньги я смогу пожить.
— А если найдут — расстреляют, — сказал я.
Паша махнул рукой:
— И мне, и людям легче. Позади лагеря, впереди лагеря, чем так жить, лучше уж пусть расстреляют.
— Брось, Паша, — сказал я. — Самая плохая жизнь на свободе лучше лагерной. Нечего и сравнивать. Здесь же ад кромешный.
Паша пожал плечами.
— Я привык. Я другой жизни не знаю, по мне — так и должно быть.
Паша радовался, что я не брезгую с ним разговаривать. Он стал расспрашивать, была ли у меня когда-нибудь женщина, — ведь у него, как у многих в лагере, женщины никогда не было. Потом он спросил, откуда я. В шутку я ответил:
— Из Лондона.
— Из Лондона? — спросил Паша. — Это где? От Красноярска далеко?
Я подумал, что он шутит, но Паша говорил совершенно серьезно.
— Ты действительно не знаешь, где Лондон? — спросил я с таким удивлением, что Паша даже сам засомневался, знает он или нет.
— Да, вроде… — промямлил он. — Вроде слышал где-то. Я географию плохо знаю, у меня память плохая.
В жестянку вошли два зэка. По профессии они были стопарилы, то есть грабители. Один из них, Генаша, был широкоплечий блондин, голубоглазый, с правильными чертами лица. Он всегда улыбался, немного смущенно и иронически, и щурил глаза, как будто бы от стыда. Было ему двадцать четыре года, он имел уже третью судимость за грабеж.
Второй был по кличке Амбал — здоровенный детина, пожалуй, самый сильный в лагере. Амбал пнул Пашу и, когда тот забился в угол, сел на его место:
— Не вздумай с этим пидором из одной кружки пить. Ты человек новый, порядков можешь не знать. А пидоры здесь наглые. Недаром говорят: наглый, как педераст.
— Я бы и не дал свою кружку, — сказал Паша.
— Молчи, сука, тебя не спрашивают! — рявкнул Амбал.
— Вот сейчас чифирок заварим, — Генаша отщипнул кусок от плиты чая. И, обратясь ко мне: — Думал ли ты, что существует житуха такая?
— И не снилось, — искренне сказал я.
— Вот Амбал пидорастов жарит, — сказал Гена. — А я в основном дрочу. И уж так привык в лагере, что на свободе, в этот раз, когда вышел, так и не смог с бабой. Неинтересно. Мозги совсем свихнулись. Вот поглядеть бы да подрочить, а так, с бабой, неинтересно. — Гена помешал в кружке с чифиром. — Ничего, скоро на свободу. Еще полтора года осталось.
— А что будешь делать? — спросил я.
— Наверное, поменяю профессию. Воровать начну.
— Не стоит, — возразил Амбал. — Лучше стопарить. Подошел, отнял, пропил — любого останавливай, нечего голову ломать.
— Ну уж любого!.. — не согласился я. — А если человек будет сопротивляться?
— Чего? — удивились в один голос стопарилы. — Как это сопротивляться? Ведь если человек идет грабить, так он знает, что делает. Это же его работа. Мало ли что он припас в кармане? Да вот хоть и я, попал бы к стопарилам, — тоже отдал бы, что просят. Куда денешься? Ведь душу вынут.
— Ну, бывают же смелые люди, — настаивал я.
— Ерунда, — сказал Амбал. — Я вот, помню, настолько обнаглел, что один раз, среди бела дня, двоих остановил. Два мужика здоровенных, а отдали все. Даже кольца. А потом я у одного заметил в кармане бутылку водки. Так я за нее потянул — в это время он мне как даст в челюсть! Да так удачно приварил, что я с копыт долой слетел. Ну, они и бежать со всех ног. — Амбал засмеялся. — Вот ведь народ русский. Когда дело до водки доходит, — ничего святее нет. Родную мать продаст, собственной жизни не пожалеет. А кроме этого, никаких случаев не было, чтобы сопротивлялись.
— А я бы не отдал, — продолжал я храбриться. — Трудно, что ли, двинуть?
— Куда бы ты делся? — сказал Генаша со всегдашней смущенной улыбкой. — Еще торопился бы снимать с себя пиджачок.
— А как ты грабил?
— Как? Выходим обычно, когда темно. Был у меня подручный. Ну, я просил отдать.
— Как просил? Грозил чем-нибудь? — спросил я.
— Ну-у, — махнул Гена рукой, как будто его пытались обвинить в чем-то постыдном. — Обыкновенно, подходил и говорил, как вот сейчас с тобой.