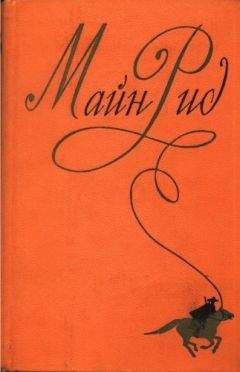Рядом со Святым Отцом трудился его напарник Щука, высоченный детина, с двумя рядами стальных зубов, которые он показывал в ослепительной, как у актера, улыбке. У Щуки была своя, не менее доходная, специальность. Он вытачивал из зубных щеток шарики и вживлял их в половой член своим заказчикам, которых у него было превеликое множество. У лагерников бытует мнение, что женщине доставляет удовольствие толстый половой член. Так вот, чтобы утолщить его, и делается эта операция — надрезается кожа и вживляются внутрь пластмассовые шары, которые называют «спутниками». Перед выходом на свободу большинство проделывает себе эту операцию, воображая, что в таком виде они будут представлять собой большой подарок женщине. Под ножом у Щуки корчился очередной кандидат в первые любовники, а в углу сидел Санька-врач и надрывался от смеха.
— Был у меня приятель, — сказал он, — который нарастил себе целую пригоршню «спутников». Поймал он после лагеря какую-то проститутку — ну та, ни о чем не подозревая, легла с ним в постель. А дело было у меня на квартире. Шлюха как заорет — потом никак не хотела снова с ним лечь. Говорила, что он ей какой-то корягой заехал. Вот дикари, так уж дикари.
— Э-э-э, — стонал зэк от боли.
— Терпи-и-и, — говорил Щука. — Любви без страданий не бывает. Вот и все. Живи на радость женщине.
Щука захохотал. Тем временем Святой Отец размягчил битум и залепил им зубы какому-то старому зэку — так он делал слепки. Второго усадил около входа, где было побольше свету, и, взяв в руки полуметровый напильник, стал снимать верхушки зубов, на которые он должен был сделать коронки. Раздался скрежет, голова у зэка затряслась, глаза вылезли из орбит и из открытого рта вырвался каркающий стон.
— Давай, нажимай сильнее, Святой Отец, — подбадривал его Санька. — Пили его, такой красавец выйдет!
— Смеешься, — сказал спокойно Святой Отец. — А ведь тут, до самого Красноярска никто тебе, кроме меня, зубов не вставит. Тут только выбивать мастера. Ко мне менты ходят зубы вставлять — поэтому они не наводят у меня так часто шмон, как у других.
Святой Отец отложил напильник и засунул пятерню в рот тому, у которого готовился слепок. Но битум крепко схватился и не снимался с зубов. Святой Отец поднажал, и битум поддался. Каково же было его удивление, когда он в куске битума увидел все зубы, с которых он хотел снять слепок. Зэк провел языком по тому месту, где были зубы, и понял все.
— Падла, — прошамкал он, — ты мне зубы снял. Вместо того чтобы поставить коронки, ты их вообще выдрал.
— А-а-а, — в сердцах сказал Святой Отец и бросил битум с зубами на пол. — Ходите тут, зубы совсем не держатся. Коронки им надо какие-то.
Санька помирал со смеху.
— Ты, змей, — не унимался зэк, — тащишь на себя, как трактор. Так у тигра можно зубы выдрать. Я вот тебе дам сейчас напильником по башке…
— Идем отсюда, — сказал мне Санька, вытирая слезы от смеха. — Сейчас здесь драка будет, незачем быть свидетелями.
* * *
Однажды я зашел в библиотеку поболтать с библиотекарем и заодно, быть может, найти что-нибудь почитать в его хламе. Командовал там Иван Семеныч или просто Семеныч, старик лет 60, получивший два года строгого режима за хулиганство. Семеныч печалился ужасно. Посадили его по причине не очень серьезной. Он застрелил соседскую собаку. Соседи имели связи с партийными бонзами, Семеныч же связей не имел. Строгий режим ему дали потому, что он во времена Сталина отсидел десять лет. Не важно, что Семеныч был реабилитирован, как невинная жертва сталинского произвола, — важно то, что он сидел.
— Ух, чтобы им, — в сердцах говорил Семеныч. — Я был гвардейский офицер, под пули шел, не сгибаясь, во время войны. Но попали мы в окружение — и надо отступать, бесполезно драться. Я — к командованию по телефону, а они мне: «Ни пяди земли родной, драться до последнего, умрите, как герои». А я ему сказал: «Умирай сам, сука. Говорили, летаем выше всех, дальше всех, быстрее всех. А где они, ваши самолеты? Голыми руками хотите танки брать?» Дал я приказ отступать. Арестовали меня, на Лубянке мордовали. Я следователя треснул по-гвардейски — измолотили меня что надо, а потом — в лагеря. Теперь вот строгий режим за то, что прежде без вины отсидел десять лет. Креста на них нет.
Увидев меня, Семеныч сделал знак рукой: подожди, дескать, отпущу очередь. Стояло всего три-четыре человека с какими-то засаленными книжками, а один из них рассказывал, как он как-то раз смотрел на свободе кино про любовь.
— И вот, — с радостным возбуждением говорил он, взмахом руки подчеркивая лиричность момента, — идет она, бля буду, к нему, бля буду, дождь там — мать твою… А он, бля буду, в халате, бля буду, а она ему, бля буду, на шею… В рот меня…
Зэк хлопнул себя по ляжке и засмеялся. Остальные тоже заулыбались — история была действительно интересная. Наконец Семеныч отпустил читателей, закрыл окно и вышел ко мне.
— Послушай-ка, здесь есть один политический. Уже два месяца в лагере. Не знаешь его?
Я уставился на Семеныча, от волнения не в силах вымолвить слова.
— Да-да, — продолжал Семеныч, заметив мою реакцию. — У меня в карточках все регистрируется. Статья, срок. Ему я ничего не сказал — знаешь сам, лагерь. Ты тоже никому…
— Как фамилия, Семеныч?
Я даже схватил его за грудки.
— Фамилия! В каком бараке?
— Успокойся, — Семеныч зашел к себе обратно в конторку. — Вот он. Решат Джемилев. Статья 190–1. Записан с июля месяца. Третий барак.
«Как же так? — думал я на бегу к третьему бараку. — Два месяца, а я ничего не знаю! Он-то, новичок, уж точно слышал обо мне — почему не пришел познакомиться? Что за человек?»
У третьего барака стоял зэк но кличке Акула — первейший мерзавец, доносчик и предатель. Он улыбнулся мне открытой, приветливой улыбкой, какая бывает лишь в кино у американских ковбоев. Можно было подумать, что честнее, благороднее и дружелюбнее человека на всем свете не сыскать.
— Ты не Решата ли ищешь? — спросил Акула.
Я кивнул.
— Какая неудача, — сказал он. — Решат работает в первой смене. Но я ему говорил о тебе.
— И что он?
— Он? Да он ни с кем знаться не хочет. Всех подозревает, — Акула улыбнулся приветливее. — Уж я ему говорил, сам понимаешь, что ты человек что надо, доверять можно на все сто, а он все не решается.
Мне все стало ясно. Акула за всю жизнь не сказал доброго слова даже о родной матери.
В воскресенье я отправился к третьему бараку. Того, кто мне нужен, я выделил с одного взгляда по осмысленному выражению лица, хоть одет он был в обычное лагерное тряпье.
— Вот и он, — сказал Акула своему соседу. — Можешь познакомиться.