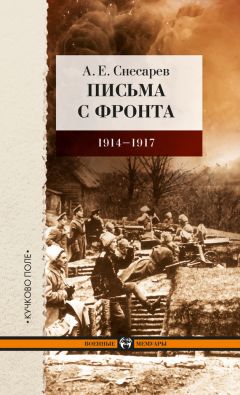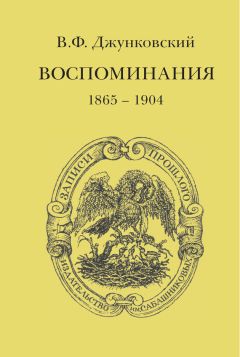Это был оригинальный концерт, который давал начальник дивизии – грязный, мокрый, в сапожищах, – давал офицерам и солдатам двух своих полков. Четвертого командира я застал в другом фольварке, тоже разоренном. Тут я был недолго, дав короткие указания. Здесь меня поразила одна сцена: проходя мимо одной маленькой комнаты, я заметил стоявшую на коленях фигуру старика, который молился перед Мадонной, стоявшей на обычном столе. О чем молился старик, мне не могли сказать, но он молился давно и горячо. О чем? О своем разоренном гнезде, об ужасах, которые царят вокруг, об умягчении озверелых сердец, о многом, о чем можно молиться сейчас. Старик меня взволновал, и я о нем думаю и по сию пору. При отъезде я поехал известной дорогой, а Ник[олай] Фед[орович] хотел попробовать новую, конечно, застрял и отстал; в результате, открытая стрельба попала в меня только по лошадиным хвостам, а ему пришлось проезжать под аккомпанемент разрывов как следует… Когда он догнал меня, мы много смеялись. Вообще, мы все же смеемся, и иногда при такой обстановке, когда другие приседают, ежатся и дрожат. Это мое основное требование к штабу и ко всем близким: соблюдать неизменное спокойствие и веселость; также было и у Павлова, откуда я и заимствовал. Во время отхода мне пришлось возвращать к сознанию и дивизион[ного] интенданта, и дивизион[ного] врача (бедный пугливый старик), и одного из офицеров штаба; теперь я понят, и кругом меня покой, хотя бы небо сваливалось на землю. Что в некоторые минуты делается с некоторыми – это их секрет, но лица их безмятежны, а разговоры их со мною или доклады ведутся со спокойной выдержкой.
От тебя, моя радость, писем нет никаких с 8-го числа, но я уже тебе писал, что сейчас я на такое удовольствие не рассчитываю. Даст Бог, все у вас будет обстоять благополучно. Если мы здесь задержимся на несколько дней, то все скоро начнет налаживаться, и от моей женки прилетит целая кипа писем. Тебе же я обычно пишу через день, а отсылаю при случае. В приказе армии и флоту за 16 мая я прочитал, что полковник 318-го Черноярского полка Попов назначен командиром 133-го Сим[феропольского] полка; куда делся Люткевич, из приказа я нигде не мог понять; может быть, он назначен бригадным, а может быть, удален в резерв. Из наших знакомцев Толоконников уже бригадный и значит скоро будет генералом (завед[ующий] хоз[яйством] 17-го Донск[ого] п[олка]), Усачев – генерал и командует казачьей дивизией. Я тебе, кажется, писал, что Скобельцын отчислен от дивизии, хотя ему обещал Гутор дать скоро новую. 1) Когда еще дадут, а 2) тяжко переживать незаслуженное наказание.
Сейчас думаю о том, как твое здоровье и как с твоими обмороками обстоит дело. Если мои письма будут приходить правильно, а на это я надеюсь, то все пойдет, как следует. С нашим переполохом, вероятно, погибли и мои сапоги, и те, что готовили для Генюши. Как только начнем устраиваться, буду наводить справки. Я здоров, головные боли были только первые два дня отхода, а затем прекратились. Сейчас, с началом устойчивости, дух мой оживает, и я готов смеяться, как дитя.
О тебе, моя голубка, думаю непрерывно, даже в минуты переживаемых ужасов… ты мое убежище и услада. Давай, милая, твои глазки и губки, а также наших малышей, я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей. Целуй Алешу, Нюню,
деток. А.
18 июля 1917 г.Дорогая моя лапушка-женушка!
Только что пришел со своего наблюдательного пункта. Вот уже пятый день, как мы остановили противника, и вчера я переехал в фольварк «под лес». Моя дивизия крепнет, и на нее уже начинают обращать внимание; ходит уже легенда, что Керенский прислал дивизии личную благодарность; такой благодарности я еще в руках не имею, и ее, быть может, и нет, но существование ее в солдатских рассказах уже имеет некоторое значение. Вот тебе решение моей дивизии, вынесенное на другой день прихода нашего к границе: «1917 года, июля 15 дня, общество офицеров и солдат полков дивизии единогласно постановило: прекратить позорное для великой революционной армии свободной России отступление пред исконным русским врагом и позицию на рубеже земли Русской, у речки Збруч, оборонять до последнего человека и до последней капли крови.
Всякого, кто, не будучи ранен, в страхе или панике покинет ряды товарищей или будет подговаривать к этому других, немедленно без суда расстреливать на месте как изменника России; воинские части, оставляющие вопреки распоряжениям военного начальства боевую позицию, встречать пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем резервных частей.
Доводя до сведения свое решение, общество офицеров и солдат полков просит во имя любимой родины присоединиться к настоящему решению для дальнейшего распространения его в соседних дивизиях и корпусах».
Это тебе, моя золотая, говорит достаточно о настроении в моей дивизии. Я имею частное сведение, что один, пытавшийся бежать, уже был расстрелян, но это от меня было скрыто. Постановление я доложил в корпус и соседние дивизии. Вчера один из полков моих принимал участие в деле и вел себя прекрасно, никакого сравнения с другими. Ты понимаешь, насколько все это меня бодрит и приподнимает. Насколько в этом перерождении дивизии вложено моего труда и искусства, не мне судить, но кое-что вложено несомненно.
Мой наблюдательный пункт находится в версте от меня, и к обеду я возвращаюсь к себе. Кругом степная природа, все покрыто степными цветами, и сухой ветер играет изгибами земли, как это я часто наблюдал в дни золотого детства. После обеда все разморены от жары, ложатся спать, а я беру двух казаков и иду на пункт. Они тоже воспринимают аналогию и повторяют мне: «совсем как у нас на Дону летом». И они начинают пересчитывать цветы, давая им забавные станичные названия, которые несут меня к прошлому, и я то смеюсь, то предаюсь грусти. Я приставляю бинокль к глазам и слежу за горизонтом, а казаки расходятся в стороны и рвут мне букет. «Наш нач[альник] дивизии любит степные цветы», – слышу я их объяснения. И букет растет под их руками, а теперь, соединенный вместе, он красуется на моем столе. Он прелестен своим диким сочетанием красок, яркостью их колорита, непосредственностью цветочного сочетания. Ты знаешь, я не особенно люблю взращенные человеком цветы, но посеянные рукой Бога на степном просторе я люблю безумно, как могу я любить. Ведь и мое сердце выросло на степных просторах, под теплым солнцем, и ему так свойственны несуразные и дикие переливы степного цветения.
Мою философию, моя роскошь, я прерывал на целый час, так как в соседней дивизии произошло наступление, и я бросился на свой набл[юдательный] пункт наблюдать его. Видимость была плохая, и, кроме разрывов той и другой артиллерии, я ничего не видел. Но цветы были кругом меня, и их обнимала теперь ниспадающая прохлада вечера. Сейчас сумерки, и я продолжаю писать тебе при свете маленькой свечки. Рядом тарахтят телефонисты на всякие тоны и возгласы, прерывая казенное с частным и личным. Опять отрывался, чтобы отдать приказ о движении вперед бронированного поезда. Долго уламывал начальника, но когда сказал, что я сам бы стал на паровоз, если бы умел им править, он уступил, и сейчас мне донесли, что поезд готов двинуться. Хороши эти вещи и эффектны, могут производить громадное впечатление, но требуют большого сердца от того, кто будет ими дирижировать; маленькая нехватка в этом ресурсе – и человек будет искать тысячи причин, сомневаться, а в результате никого не погубит, а погибнет.