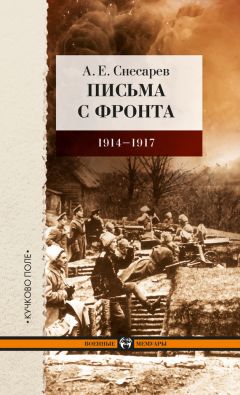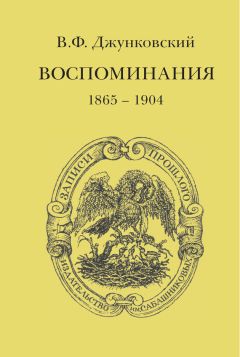Мой наблюдательный пункт находится в версте от меня, и к обеду я возвращаюсь к себе. Кругом степная природа, все покрыто степными цветами, и сухой ветер играет изгибами земли, как это я часто наблюдал в дни золотого детства. После обеда все разморены от жары, ложатся спать, а я беру двух казаков и иду на пункт. Они тоже воспринимают аналогию и повторяют мне: «совсем как у нас на Дону летом». И они начинают пересчитывать цветы, давая им забавные станичные названия, которые несут меня к прошлому, и я то смеюсь, то предаюсь грусти. Я приставляю бинокль к глазам и слежу за горизонтом, а казаки расходятся в стороны и рвут мне букет. «Наш нач[альник] дивизии любит степные цветы», – слышу я их объяснения. И букет растет под их руками, а теперь, соединенный вместе, он красуется на моем столе. Он прелестен своим диким сочетанием красок, яркостью их колорита, непосредственностью цветочного сочетания. Ты знаешь, я не особенно люблю взращенные человеком цветы, но посеянные рукой Бога на степном просторе я люблю безумно, как могу я любить. Ведь и мое сердце выросло на степных просторах, под теплым солнцем, и ему так свойственны несуразные и дикие переливы степного цветения.
Мою философию, моя роскошь, я прерывал на целый час, так как в соседней дивизии произошло наступление, и я бросился на свой набл[юдательный] пункт наблюдать его. Видимость была плохая, и, кроме разрывов той и другой артиллерии, я ничего не видел. Но цветы были кругом меня, и их обнимала теперь ниспадающая прохлада вечера. Сейчас сумерки, и я продолжаю писать тебе при свете маленькой свечки. Рядом тарахтят телефонисты на всякие тоны и возгласы, прерывая казенное с частным и личным. Опять отрывался, чтобы отдать приказ о движении вперед бронированного поезда. Долго уламывал начальника, но когда сказал, что я сам бы стал на паровоз, если бы умел им править, он уступил, и сейчас мне донесли, что поезд готов двинуться. Хороши эти вещи и эффектны, могут производить громадное впечатление, но требуют большого сердца от того, кто будет ими дирижировать; маленькая нехватка в этом ресурсе – и человек будет искать тысячи причин, сомневаться, а в результате никого не погубит, а погибнет.
От тебя писем нет, но скоро я надеюсь начать их получать, так как уже пять дней мы стоим на месте, и тыл наш, а с ним и почта, скоро будет налажен.
Давай, моя прелестная, твои глазки и губки, а также нашу мелюзгу, я вас обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
Целуй Алешу, Нюню, деток. А.
20 июля 1917 г.Дорогая и славная женушка!
Сегодня неделя, как мы стоим на одном и том же месте, я же третий день «под лесом», к северу в 8–9 верстах от города спасителей Капитоля. У нас стоят жаркие дни, и я все-таки раза два хожу на свой наблюдательный пункт; обыкновенно беру двух казаков и с ними болтаю без конца. Жара эта чисто степная с сухим степным ветром, и я в этой жаре чувствую себя роскошно: при такой именно обстановке я поднялся на ноги, и теперь все, что вокруг меня, говорит мне о моем детстве, – особенно эти степные цветы, букет которых стоит предо мною, лаская мой взор своим диким подбором.
От тебя писем нет уже две недели, но я сравнительно спокоен, зная, что причиной тому наши нервные и боязливые полевые конторы. Они глубже сидят в тылу, чем все остальные учреждения корпуса, вне всяких огней, какие только существуют, но боятся они больше всех… таков закон полевой психики: чем дальше от фронта, тем больше нервоза, – уже в штабе полка больше трусости, в штабе дивизии (не у твоего только супруга, не подумай, пожалуйста) еще больше, в штабе корпуса – еще, а в штабе армии уж и совсем нервно. Самой храброй и спокойной является рота, сидящая в передовых окопах и любующаяся каждый день на своего врага; храбрее ее разве будет какой-либо взвод, вынесенный еще дальше вперед. И я, зная эту психику, всегда повторяю волнующимся: «Идите в окопы и там обретете покой». Я и сам, если начинаю поддаваться излишним тревогам, спешу посетить окопы. Вчера почитал газету от 14.VII, все теперь сосредоточено на Петрограде и Москве, из провинций решительно никаких сведений, что мне говорит, что телеграф или перегружен, или работает скверно, а поэтому газеты не получают никаких сведений. Я рад, что в Москве соберутся авторитетные и деловые группы и вынесут свое веское слово, иначе мы будем топтаться в потемках или толкаться лбом в какой-то тупик, изрисованный никому не понятными лозунгами. Одному офицеру-чудаку вздумалось спросить солдатскую массу, что значат слова «демократия», «революция», «свобода», «конституция» и т. п. Получился такой жанровый букет наивностей и субъективного толкования, что от смеху может лопнуть самый прочный живот. Наиболее однообразно толкуется «свобода», а именно, как право делать, что угодно (один так и написал: «Срать, где захочу»), и жить вне закона… однообразно, но зато ведь и страшно.
Вчера получены указания Вр[еменного] правительства о введении смертной казни, и мы вводим так называемые революционные суды. Почему эти военно-полевые суды, более строгие и с более резкими правами, названы революционными, мы не знаем, разве потому, что в качестве судей рядом с тремя офицерами сидят три солдата. Но, Боже, как нынешние руководители плохо знают нашего православного! Этот-то демократический придаток в судах и окажется самым злым, требовательным и карающим, он внесет кровь, он будет настаивать на смерти, а «жестоким» буржуям-офицерам придется смягчать суровый голос народа.
Я сегодня видел первый состав революционного суда при моей дивизии, и, всмотревшись в лица новых судей, я почувствовал живую потребность рекомендовать осмотрительность и обязательное присутствие защитника (новый закон допускает его присутствие, но не делает его обязательным). Мы стоим целую неделю, и это страшно важно, так как каждый лишний день укрепляет почву под нашими ногами, а поправлять и восстанавливать есть чего. Немцы, напр[имер], придумали такую штуку: в момент отступления обозов они через своих шпионов поднимают внезапный крик: «Спасайтесь, немецкая кавалерия!» – и все бросаются бежать, вещи бросают, снимают сапоги, кидают винтовки, перерубив постромки, ускакивают на лошадях и т. д. Получается страшная картина бестолкового панического бегства, у людей выпученные глаза, похоже на паническую вакханалию. Я пережил это 10.VII, откричал себе весь голос, избил о спины и обо что попало свою палку, чуть не застрелил одного уносного… и в конце концов при помощи штаба и казаков остановил волну. Это мне стоило удара в плечи дышлом, давки лошадьми и т. п. Но зато по влиянию на психику такая паника нечто самое страшное; мой Осип начал мне, напр[имер], давать совет бежать краями деревни куда-то и очень жалел, что под руками не было наших лошадей, а Осип ведь из храбрецов храбрец. Потом оказалось, что немцы такой опыт произвели на многих пунктах и во многих местах с большим успехом. Я в своей дивизии потерял сравнительно немного, но грустно, что некоторые офицеры потеряли все свое имущество.