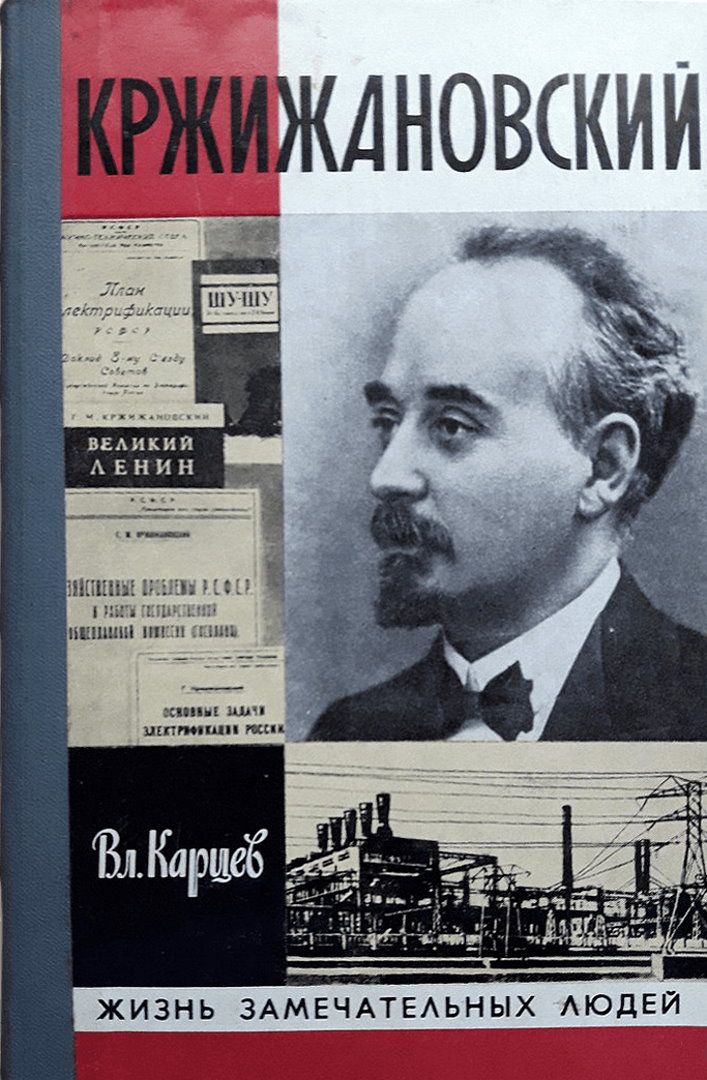обречена на арест и находится в соответствующих списках, долго думал, как лучше поступить теперь, когда он стал представлять ее себе гораздо лучше. Он пришел к выводу: не нужно арестовывать Зинаиду. Во всяком случае, вместе со всеми. Пусть побудет на свободе. К ней как одной из самых общительных сведутся все нити организации. Тогда со всем последом и возьмем.
Зинаида же из происшедшего сделала печальный вывод _ о ней и о ее друзьях многое известно. Так оно и было.
27 мая 1895 года петербургский градоначальник фон Валь препроводил департаменту список лиц, заподозренных в принадлежности к «социал-революционному обществу», и сообщил, что «деятельность кружка «социал-демократов» за последнее время значительно расширилась и, в частности, проявилась в издании брошюры «Что такое «друзья народа»…». Из сообщений провокаторов и филеров было известно о существовании «Центральной рабочей группы» («Ц. Гр.») и «Центрального рабочего кружка» («Ц. Р. К.»).
В «Список лиц, на коих падает подозрение в принадлежности к социал-революционному обществу», составленный 27 мая 1895 года, входили Ульянов, Старков, Запорожец, Малченко, Радченко… Список состоял из 34 человек. Глеба Кржижановского в этом списке пока еще не было.
ТРАКТ ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ,
НЕУЮТНЫЙ, СЕРЫЙ
Не удовлетворяясь пропагандой, Старик считал необходимым переходить к агитации среди рабочих. Первая листовка, переписанная от руки в четырех экземплярах, была разбросана Бабушкиным на территории Семянниковского завода. Два листка попали в лапы сторожей, но два не пропали — их подняли рабочие, прочитали, распространили, читали вслух в уголках цехов. Это было успехом, и Глеб со Стариком стали составлять новый листок. Кржижановский, серьезно подумывавший о литературной карьере, старался действовать образно, использовал простонародные слова; Старик, напротив, оставался самим собой — он совершенно не пытался подделываться под аудиторию, предпочитая поднимать ее до своего уровня.
Глеб со своим листком завозился, Старик давно уже исписал своим мелким почерком несколько страниц; посматривая искоса, поджидал… Наконец кончил и Глеб. Стали сравнивать.
— Читай первый, — предложил Ильич.
Старику листок Глеба очень понравился.
— Твой текст лучше, — сказал он. — Он пойдет. У тебя — настоящая драма. — Потом подумал немного и сказал задумчиво: — Настоящая драма.
Глеб посмотрел на Старика с сомнением, стараясь убедиться — не шутит ли? Глебу листок Старика понравился гораздо больше — текст был проще, короче и содержательнее. Глеб пробовал убедить его, но тот стоял на своем. Был очень неуступчив иногда, особенно когда касалось дела.
Глеб внимательно перечитал свое творение, останавливаясь на отдельных фразах: «…грусть-то грустью, а работа — работой. Работаем мы всю жизнь на капиталистов, поработаемте-ка на себя. Знаете, есть такая игрушка: надавишь пружину, и выскочит солдат 6 саблей. Так оно и вышло и на Семянниковском заводе, так будет выходить везде: заводчики и заводские прихвостни — это пружина: подавишь ее разок, и появятся те куклы, которых она приводит в движение: прокуроры, полиция и жандармы. Это надо записать каждому рабочему в своем мозгу… Да и какой ему выбор ставит сама жизнь? Превратиться совсем в вьючное животное, которое только тупо смотрит, как на него накладывают одну непосильную тяжесть за другой, — да разве это не равносильно умерщвлению в себе человеческого образа, да и не только в себе, айв своих ближних, всех, для кого живешь и работаешь?.. Уехать в другое место? Но куда? В родной деревеньке одна нищета, кулаки да розги г-д земских начальников; не туда, а оттуда бежит народ в город. Уйти на другой завод или в другой город? Да разве там не одно и то же? Уехать некуда… «Борьбы и знаний!» — вот чего требует от русского рабочего русская жизнь…»
Может быть, и в самом деле неплохая листовка?
Делясь с Зиной впечатлениями о новом стиле работы, заведенном Стариком, и слушая ее рассказы о беседах с рабочими, обучающимися в воскресной школе, Глеб все четче выстраивал в своем сознании значение, формы и масштабы новой работы.
Действительно, то, что было до прихода Старика, при всем желании трудно было назвать боевой революционной организацией. Это, с одной стороны, патриотически настроенные благородные интеллигенты и с другой — отдельные рабочие, стремящиеся к знаниям, к осознанию своей роли в грядущей революции, большей частью рабочие-книжники, книгочеи, серьезные и рассудительные, или, как их называли на заводах, «умственные». Существовали, конечно, периодические собрания, но это были редкие встречи рабочих, связанных в основном личным знакомством, — здесь не было элемента представительства. Шелгунов, Кайзер, Фишер, Фунтиков, Богданов, Князев, Меркулов подбирали себе кружки из знакомых им рабочих, приводили туда знакомых им интеллигентов-пропагандистов, а в случае провала через учительниц вечерних классов вновь нащупывали связи с интеллигентами. Не было организации [1], не было центра. Не было четкого направления борьбы — некоторые склонялись к народничеству, уповая на крестьян; некоторые, признавая Маркса, уповали на капитализм. Рабочие слабо ощущали разницу между социал-демократами, марксистами и народниками.
На нетвердость теоретических позиций самих руководителей и обратил в первую очередь внимание Старик, когда он познакомился с группой. Борьбу с народничеством нужно было начинать отсюда. Поэтому-то он, видимо, и устроил чтение рефератов, это был своеобразный педагогический прием — взгляды, представления и ошибки каждого на ладони, их можно увидеть и исправить. Столь же глубокими и правильными показались Глебу и другие реформы, произведенные в организации Стариком: каждый должен был теперь давать отчет перед товарищами о своей пропагандистской работе в рабочих кружках, докладывать о работе среди студентов, о контактах с другими организациями.
Это все было сравнительно безболезненно, легко и даже с энтузиазмом воспринято. Сложнее было другое. Старик не упускал случая повторять, что революция — это не игра в бирюльки, она требует полной отдачи и отказа даже от самых естественных радостей, отвлекающих от нее или просто мешающих ей. Он категорически отвергал «обывательские», по его словам, хождения друг к ДРУГУ, неделовую и неконспиративную переписку, много выговаривал друзьям за неосторожное поведение, способное привести к провалу. (Он один, видимо, представлял себе в полной мере истинные масштабы российской слежки и шпионажа; другие просто не могли вообразить ничего подобного.)
Он учил их шифровать, причем не по тем примитивным системам, которые известны всему миру и употребляются даже детьми, но по системам изощренным, практически не поддающимся расшифровке. Последнее оказалось истинной правдой, в чем они сами убедились, когда, потеряв шифр, пытались прочесть свои учебные шифровки.
Он запрещал использовать в разговорах и переписке настоящие имена, и революционеры после некоторого сопротивления привыкли упоминать «Землянику» вместо Старкова, «Суслика» — вместо Кржижановского, «Минина» — вместо Ванеева, Пожарского — вместо Сильвина, «Тяпкина-Ляпкина» — вместо Ульянова. Стали осторожнее, реже собирались,