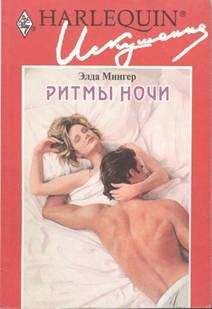И внезапно слабым, замедленным каким-то движением поворачивается она к большому настенному зеркалу, пристально всматривается в него, поправляет прическу и бережно — кончиками пальцев — проводит по скулам своим и губам.
* * *
И еще мне видится вечер — зимний, долгий, томительный.
Примостясь у окна, я листаю толстый том Вазари — коротаю время в тишине. Я в квартире один. Брат где-то шляется (последнее время он часто стал пропадать из дому), а матери уже нет здесь; она живет теперь в другом месте — у нового своего мужа.
Я скучаю, трещу страницами, уныло поглядываю в окошко. Уже поздно. Заиндевелые стекла залиты плотной морозной синевой; там, в клубящейся мгле, громоздятся московские крыши — белые изломы и острые углы, заиндевелые шпили башен, ватные дымки над трубами.
Внезапно в дверь стучат. «Наверное, Андрюшка, — думаю я. — А может, мама? Что-то она совсем нас забыла; который день не появляется…»
Топоча, врываюсь я в прихожую, отмыкаю дверь и вижу перед собой чужого, незнакомого человека.
Сняв шапку, отряхивая ее от снега, он ступает через порог и вежливо осведомляется: можно ли увидеть Елизавету Владимировну?
Я объясняю, что ее нет, что она живет по другому адресу.
— Вы что, мамин друг? — спрашиваю я затем.
— В общем, да, — говорит он, — да, конечно. Но главным образом, я друг того дяди, который жил здесь раньше. Ты его, надеюсь, хорошо помнишь?
— Да не особенно, — отвечаю я медленно, — видел когда-то… Давно уже… Но его ведь тоже нет!
— Знаю, — вздыхает незнакомец, — знаю, что нет. Сухолицый и подвижный, он оттесняет меня, проходит в комнату и усаживается там плотно, скрипнув стулом.
— Его нет, зато остались все мы — старые его друзья. А дружба, брат, это великая вещь! Я, например, частенько его вспоминаю. И другие, наверное, тоже?…
Он внимательно смотрит на меня, улыбается, сощурясь.
— После его отъезда кто-нибудь навещал вас, приходил к маме, беседовал о нем, а?
Я молча пожимаю плечами. Разминая пальцами папиросу, гость подбадривает:
— Не бойся, чудак, говори. Ну! Что же ты? Ведь было же много общих друзей. Вот, к примеру, Анисимов…
Он называет еще несколько фамилий; все они мне незнакомы и так я об этом и заявляю.
— Что ж, — кивает он, — ладно. Я, в общем-то, не настаиваю.
Он закуривает, затягивается и затем, округляя губы, выталкивает колечко белесоватого дыма.
— Ну а письма, — спрашивает он погодя, — какие-нибудь записки, послания приходили от него? Я почему спрашиваю? Просто любопытно, как он там, в Америке, что с ним… Неужто он, за все это время, так ничего о себе и не написал? Не подал ни единой весточки?
— Не знаю, — говорю я, — поинтересуйтесь у матери… Она — я уже объяснял — живет не здесь.
— Н-ну, спасибо, — произносит он, вставая. — Обязательно поинтересуюсь… Она что же, бывает у вас не часто?
— Да как когда, — отвечаю я с мгновенной и острой обидой, — иногда по неделям исчезает. Ждешь ее, ждешь…
— Ай-ай-ай, — он кладет мне на голову сухую жесткую ладонь. — Что же это она? Нехорошо. Такие отличные ребята… Ты ведь учишься?
— А как же, — говорю я и добавляю с гордостью: — В художественной школе имени Репина.
— Хочешь быть художником?
— Ага.
— А брат?
— Он еще не решил… Его вообще-то путешествия увлекают.
— Ну вот, — бормочет он, — ну вот. Отличные ребята. Гость идет к дверям. И вдруг — помедлив — вполоборота:
— Как же вы все-таки тут живете? Кто вам хоть готовит? Неужели — сами?
— Да нет… К нам домработница приходит.
— Домработница? — он задумывается на миг, сужает глаза. — Ее как звать?
— Настя.
— Настя, — повторяет он. — Так. А фамилия?
— Не знаю.
— Что же это ты, брат? — скупо улыбается гость. — О чем тебя ни спроси — ничего ты не знаешь. Кто в доме бывал, не знаешь. Насчет писем — тоже. А еще в художники метишь! Человек искусства должен быть наблюдательным, должен подмечать любую мелочь.
Я прощаюсь с ним и долго потом не могу разобраться в своих ощущениях. Нежданный этот посетитель мне кажется странным; что-то есть в нем занятное, необычное и вместе с тем отталкивающее, вызывающее инстинктивную настороженность.
Так, в первый раз, — в двенадцатилетнем возрасте, — встречаюсь я со следователем и узнаю, что такое допрос!
* * *
Время мчится стремительно и неудержимо; мелькают дни, чередуются даты. И вот уже мне — шестнадцать!
А вокруг грохочет война.
Столица затемнена, охвачена паникой, голодом и огнем… Школа моя эвакуировалась, но занятия я все же не прекращаю. Теперь я хожу в мастерскую Дмитрия Стахиевича Моора.
Он уже немолод, прославленный этот график и плакатист; обмякшее его лицо перепахано глубокими морщинами, седая грива волос лежит на воротнике рабочей блузы. Временами его сотрясают жестокие приступы кашля, и тогда он долго не может прийти в себя, отдышаться… Он немолод и нездоров, но по-прежнему энергичен, работает день и ночь. Выполняет срочные заказы Воениздата, рисует для Окон ТАССа.
Я помогаю ему, как могу, но, в основном, приглядываясь, учусь. Постигаю законы рисунка, тайны линии и пятна. Иногда, в минуты передышки, он беседует со мной о смысле искусства.
— Живопись — это роскошь, — говорит он, похрипывая одышкой, — графика — необходимость! В этом вся суть. Графика служит людям непосредственно и повседневно. Любой из окружающих нас предметов сотворен при ее помощи. Рисунок обоев и тканей, роспись на чашке, форма пепельницы и обложка книги — все, буквально все, сделано нашими руками! Мы придаем вещам красоту, упорядочиваем этот мир. Он хаотичен, неустроен и плох… Чем бы он был без нас?
* * *
Мир неустроен и плох — старик здесь прав! И я это знаю тоже, знаю по личному опыту.
Вся моя короткая жизнь — по сути дела — состоит из бед и потерь. Из одних лишь потерь. Я размышляю об этом, держа в руках извещение о смерти Андрея.
Он ушел на фронт в самом начале войны и вот погиб. Погиб почти сразу, в первом же своем бою. «Пал смертью храбрых» — так указано в официальном этом письме.
Строчки рябят и туманятся в моих глазах… Я порывисто сминаю бланк. Потом, спохватившись, разглаживаю его, расправляю и, аккуратно сложив, прячу в боковой карман пиджака.
Теперь я один. Совсем один в этом мире! Он неустроен и плох — и вряд ли когда-нибудь станет лучше. Тягучий вой сирены вспыхивает за окном, начинается воздушная тревога. Я выключаю свет и отдергиваю оконную штору. Передо мной в клубящейся мгле громоздятся московские крыши. Теперь они черны, обуглены, обагрены пожарами. Хлопья пепла кружатся над ними. И в вышине, рассекая ночь, маячат четкие кресты прожекторов.