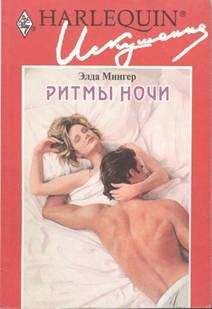Роскошная эта крупа была несъедобной!
Гречиха шла в пищу необработанной, в скорлупе. Ее нельзя было переварить. И поэтому зеки пробавлялись, в основном, кипятком и хлебом.
Пятисотграммовую рабочую пайку здесь выдавали по частям: триста граммов утром и двести — во время ужина… По примеру многих, я уносил вечернюю порцию с собой и съедал ее в камере на нарах.
И вот однажды, незаметно подкравшись сзади, Гундосый толкнул меня и вышиб пайку из рук. Она упала и покатилась по цементному заплеванному полу… Я торопливо присел и потянулся за хлебом. И в этот момент Гундосый с размаху ударил меня по пальцам кованым каблуком сапога.
— Поиграемся теперь в эту игру, — сказал он, хихикая. — Попробуй-ка еще разок… Возьми. Ну?
С минуту я сидел на полу, оторопев и скорчившись от боли, потом поднялся, постанывая, и вдруг кинулся на своего врага.
Я кинулся, простирая к нему уцелевшую левую руку, целясь в ненавистное это лицо, в мутные глаза, в слюнявый пакостный рот.
Однако добраться до него я так и не успел: меня перехватил Малыш, уцепил за плечо и рванул к себе. И в следующую минуту я получил ослепляющий, хлесткий удар. Не знаю, чем бы все это кончилось… Но тут вмешались старшие.
Из угла, где размещались блатные, появился высокий темноволосый мужчина в распахнутом ватнике и тельняшке.
— Об чем шум? — спросил он, приблизившись.
— Да так, — завертелся Гундосый, — играем…
— Только не заигрывайтесь, — веско сказал блатной. — Ясно?
— Ясно, — потупился Гундосый.
— Ну, если ясно — лады.
Он посмотрел на меня, на хлеб, валявшийся у ног, и, по-воротясь к Гундосому, добавил, грозя корявым пальцем:
— Пайку не трожьте! Даже помыслить не смейте! Помните закон. И вообще, оставьте-ка этого мальца в покое. Что вы к нему прискребаетесь?
Так закончился этот вечер.
А на следующий день я разыскал в цехе небольшую узкую пластинку металла и старательно, тайком от всех, смастерил из нее нож.
Я точил свой нож и мысленно видел Гундосого. Видел, как входит лезвие в трепещущее его горло, как хрипит и захлебывается он в крови…
* * *
Я намеревался расправиться с Гундосым немедленно, этой же ночью, но не успел — помешала воздушная тревога.
Она началась сразу же, после отбоя, и продолжалась на этот раз долго.
Охранники (как всегда в таких случаях) поспешно замкнули все двери, отключили свет и ушли — схоронились в бомбоубежище. Мы же остались во тьме, взаперти, в полнейшей изоляции.
Где- то торопливо били, захлебывались зенитки. Трещало пламя. Поминутно ухали гулкие взрывы. Судя по ним, немецкие бомбардировщики прорывались к Красной Пресне, к нашему району.
Внезапно в небе почти прямо над головами возник сверлящий, режущий, нестерпимый свист. Он близился, нарастал, заполняя собою все помещение. Он ощущался почти физически, от него раскалывался мозг.
— Фугаска, — ахнул кто-то.
И в этот момент раздался тяжкий, тугой, сокрушительный удар. Здание дрогнуло и шатнулось. С потолка — с закопченных каменных сводов — посыпалась едкая пыль.
Мы не видели неба, но зато слышали его отчетливо!
Он был грозен, этот голос неба, грозен и напрочь лишен милосердия…
Кто- то всхлипывал во мраке. Кто-то бился в истерике возле двери.
— Сволочи, ах сволочи, — донеслось до меня гнусавое бормотание, — заперли, сбежали. А если прямое попадание, тогда как? Если вдарит в самый завод — куда нам деваться? Мы же тут, как в склепе. Замурованы. Похоронены заранее, наверняка…
«Гундосый, — догадался я и ощутил вдруг неизъяснимое торжество. — Боишься, ублюдок. Боишься, трус. Смерти боишься!»
Сам я, как это ни странно, почти не испытывал сейчас обычного своего страха перед бомбежкой. Я думал о мщении! Мысль эта как бы окрыляла меня, поддерживала и оттесняла все прочие мысли.
Я уже не был прежним мальчиком, я незаметно мужал — приучался к жестокости.
Минуло еще трое суток.
Я выжидал, готовился, был по-звериному насторожен и терпелив. И, наконец, мой час настал!
В полночь, когда в камере все уже спали, я поднялся с нар, извлек из тайника свой ножик и, пригибаясь, стараясь не шуметь, двинулся в дальний угол к блатным.
Я был уже возле Гундосого, у самого его изголовья, когда меня охватил вдруг страх. «Что я делаю? — мелькнула мысль. — И что потом со мною будет?»
Странная болезненная истома овладела мною; ноги обмякли, сделались ватными, ладони взмокли от пота.
И тут, в полумраке камеры, возникла передо мною фигура отца.
Коренастый, затянутый в ремни, он приблизился неторопливо и усмехнулся, поблескивая стеклышками пенсне.
— Главное — не бойся, — сказал он, оглаживая усы ребром ладони. — Хитрить в схватке можно, трусить нельзя!
Я растерянно покосился на Гундосого. Он лежал, запрокинув голову и не шевелясь. Он сопел и булькал во сне, и чмокал мокрыми своими губами. Тощая, жилистая шея его была обнажена, ждала удара… Но нанести удар казалось мне невозможным; это было свыше моих сил.
— Отец, отец! — воззвал я в смятении. — Ты говорил о схватке. Но ведь никакой схватки нет! Видишь — он спит. Он беззащитен, беспомощен…
— А ты разбуди его!
— Да, но тогда…
— Вот тогда-то все и решится. Переломи себя. Преодолей! Это необходимо.
— Необходимо — для чего?
— Для того, чтобы стать настоящим. Иначе, что ж… Подумай о том, какая участь тебя ждет! Жалкая участь — издевательства, побои.
— Ну и что? — возразил я с внезапным лукавством. — Ты же сам втолковывал — от битья не умирают.
— Зато от позора умирают — я знаю!
— Но ведь не все же…
— Конечно, — он сурово качнул головой. — Далеко не все; только лучшие.
— А если я не такой?
— Ты мой сын!
— И все-таки поднять на человека руку…
— Я пока не говорю об убийстве… Разбуди его, заставь посмотреть в твои глаза. Вот что главное! Отныне пусть он сам боится — он тебя, а не ты его.
— Ну а если он не испугается?
— Тогда все равно — деваться некуда. И отступать уже нельзя… Рискуй до конца!
Отец произнес это и канул в сумрак, растворился в нем без следа. Образ его явился мне ненадолго, но вовремя! Я ощутил его поддержку и сразу же окреп, обрел душевную прочность.
И, уже не колеблясь, не раздумывая по-пустому, шагнул я к Гундосому — склонился к нему.
Но тут неожиданно проснулся лежащий рядом с ним Малыш, завозился, зевнул тягуче и приподнялся, опираясь на локоть.
Взгляды наши пересеклись.