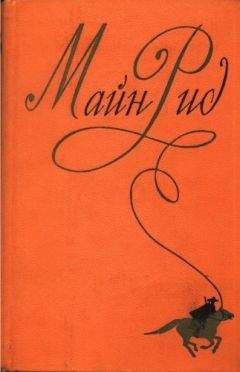Наступила для Решата новая жизнь. Дети умирали от эпидемий, и немудрено: пропитание себе они находили, роясь на помойках. На работу не принимали, нищета в семьях была ужасающая.
— А теперь они говорят о возрождении нашей культуры в Узбекистане, — продолжал Решат. — Лишили нас родной земли, языка, религии и обычаев. Вырождается целая мусульманская нация и всем это до лампочки! Европе наплевать — это понятно, они хотят жить хорошо и без лишних забот до того дня, когда их раздавят, а мусульманам наплевать, потому что они получают от Советов оружие, а Организации Объединенных Наций наплевать, потому что у нее есть дела поважнее, ведь она занята установлением справедливого и прочного мира, разработкой гуманных деклараций и прочими вещами. Обращались к коммунистам Европы — тут уж ясно, ворон ворону глаз не выклюет. А сейчас партийные бонзы взяли новую тактику. «Какой Крым? — говорят. — Ведь вы ж татары? Вот и возвращайтесь к себе на родину, в Казань. Там же татары живут!» И говорят они искренне, многие действительно не знают, что слово «татарин» обозначало у русских иноверца, мусульманина, все равно, где он живет — на юге или на востоке. Правильнее было бы называть наш народ «тавры», а не татары, ибо мы носили кличку, данную нам русскими. Но не в этом зло. Я не вижу конца. Быть может, помогут нам мусульмане, или ООН, или кто-нибудь? Как ты считаешь?
Я не знал, что ответить.
* * *
Прошло лето, наступила осень, и деревья за запретной зоной вспыхнули желтым и розовым пламенем увядшей листвы. А зэки, как десятки лет назад, ходили возле бараков вперед и назад, зябко засовывая руки в рукава телогреек и хмуро глядя вдаль невидящими глазами. Потом наступила зима, деревья за запреткой оголились, на елках пышной бахромой осел снег, а зэки все так же, как маятники, ходили возле бараков, вперед и назад, вперед и обратно. Иногда по пустячной причине вспыхивала драка, резня, напряжение и раздражение снималось и снова, как маятники, — туда-сюда, бесконечно, отупляюще, неизменно…
Я заглянул к строителям: они столпились у печки на первом этаже здания, которое строили для администрации. На душе было тоскливо. Решат лежал в лагерной больничке, у него разыгралась язва, началась кровавая рвота, и его конечно же не лечили. Я боялся, что его увезут в больницу — там с операционного стола редко кто выходил живым, а если и выходил, то калекой. Зэки страшно боялись операции в тюрьме и соглашались на нее лишь в том случае, когда наверняка знали, что иначе все равно — смерть.
— Они, видно, помирают со смеху, когда делают над нами операции, — говорил один, пришедший с лечебной зоны. — Открывают, наверно, и один другому со смехом говорит: гляди, это что у него? Ха-ха-ха, да это ему не надо. Давай отрежем. А это? Ха-ха-ха, да это совсем не надо. И это тоже. А сейчас давай зашьем и посмотрим, будет жить или нет. А? Ха-ха-ха!
Строители перекурили и ушли на работу, а я остался, не в силах двинуться с места. Если бригадир заметит, что не работаю, донесет начальству, и посадят в изолятор. Ну, наплевать!
К печке кто-то подошел и сел рядом.
— Греешься, земляк? — услышал я дружелюбный вопрос.
Я осмотрел соседа. Одет аккуратно, лагерная роба перешита так, что сидит даже с какими-то признаками изящества. Ряды металлических зубов выдавали старого лагерника, а веселая, по-настоящему бандитская рожа говорила: этот из прошляков, из настоящих. Зэк достал пачку сигарет и протянул мне.
— Закуривайте, — сказал он, обращаясь почему-то на вы. — Давайте знакомиться. Меня зовут Борис Петрович. А вас?
Я взял сигарету и назвался.
— Я о вас слышал, — сказал Борис Петрович, показывая зубы в улыбке, от которой мороз пробежал у меня по коже. — Не сладко, должно быть, вам среди лагерной шерсти. Я, знаете ли, пришел сюда недавно из другой зоны. Не везет мне в эту отсидку. Одну падлу зарезал — едва отвертелся от суда, перевели в другую зону. В другой зоне чуть не дошло до резни — на меня свалили, отправили на соседнюю. На этой зоне одна скотина, доносчик, проигрался мне в карты. А платить нечем. Побежал к куму. Кум меня вызвал. Так я там, у кума в кабинете, этой падле, доносчику, два штыря в пузо всадил. Меня, конечно, в БУР, следствие, месяц держал голодовку — протестовал. Но тот, кому штыри всадил, — тоже был такая падла, что и рады бы были кумовья, если бы он подох. А он не подох. Вот меня сюда и отправили.
Борис Петрович весело засмеялся, хлопнул меня по плечу и сказал:
— Не робейте, все будет хорошо. Я, знаете ли, предлагаю вам работать со мной вместе, в одной бригаде. Сидеть мне немного осталось, так я не хочу начинать картежную игру и лагерную шерсть вокруг себя собирать. А с вами да с вашим другом я спокойно досижу. Как его зовут, друга вашего?
— Решат, — ответил я.
— О! Рашид, — сказал он. — Рашид Бейбутов[11]. Рашид Бейбутович. Я его буду звать просто — Хоттабыч[12]. Он на Хоттабыча похож. Ха-ха-ха!
Бандюга мне положительно нравился. Тут забежал бригадир и гаркнул на меня, чтобы я отправлялся на работу.
— Крокодил, я вас не узнаю, — ласково сказал бригадиру Борис Петрович. — Такие манеры в моем присутствии. И потом, разве вы не знаете, что с моими друзьями нужно говорить так же вежливо, как и со мной?
Бригадир увял и смущенно стал объяснять, что с него тоже требуют, что он не виноват и больше не будет, но ведь должен же он на меня выписать наряд, а что написать, если человек не работает?
— Крокодил, у меня блестящая идея, я возьму его в мою бригаду. Мы будем работать вместе.
— Но, Борис Петрович, — взмолился бригадир. — Вы же сами не работаете, да еще помощника себе берете. Что я вам в наряды-то напишу?
— Крокодил, — все тем же насмешливым тоном продолжал Борис Петрович. — Я вам обещаю, что начну работать. Вы мне дадите ключ от той комнатушки, что уже построили. И мы с моим другом будем делать для нее печку, чтобы греться на работе. Ведь это же, Крокодил, Сибирь, а не Средняя Азия, где я вас водил в чайхану курить план.[13]
— Не могу же я записать вам в наряд, что вы делаете печку.
— А почему? — улыбнулся Борис Петрович. — Мы сделаем такую чудесную печечку, так будет возле нее тепло! Честное слово, Крокодил, вы будете довольны. Ступайте, Крокодил. Ваше время истекло.
Бригадир удалился.
— Как же вы месяц держали голодовку? — спросил я, обращаясь к нему также на вы. — Вам вводили искусственное питание?
— Вводили, — сказал Борис Петрович. — Только не на седьмые сутки, как положено, а недели через две. Да я не горевал. Мне мент приносил ночью коньячок и пельмени, мы с ним чудесно выпивали и говорили за жизнь, а утром я снова начинал голодать. Но по мне не видно, что я ел, — видите, какой я тощий? Всю жизнь такой. Вы представляете, прокурор, скотина, пришел через месяц и говорит: «А почему ты месяц держал голодовку и на ногах стоишь, не падаешь?» Представляете, какая скотина? Он хочет, чтобы я упал! Я и так страдаю, не могу ночи дождаться, когда мент коньячок принесет и пельмени, а он еще хочет, чтобы я упал! Ну пошли ладить печечку, а то не очень приятно будет тут сидеть со всем этим стадом.