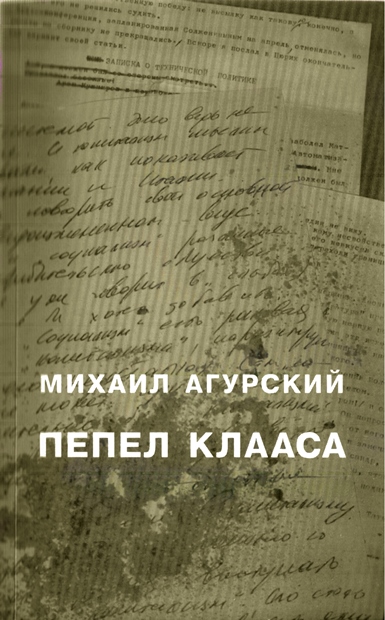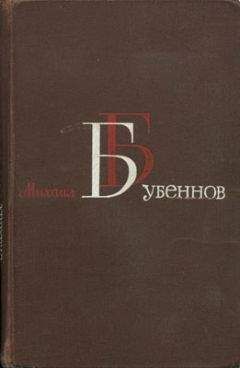из низших слоев уже отсеялось, но отсеялись также дети и ответственных сотрудников КГБ и МВД, не будучи в состоянии преодолеть премудрости школьной учебы. Кроме того, долгие годы совместной учебы не могли не сблизить оставшихся. Так что какая-то интеграция все же была, и лично я в значительной мере оказался ее продуктом. Правда, общаться мне приходилось лишь с семьями высокопоставленной интеллигенции — семьи правительственного аппарата оставались для меня почти закрытыми.
Я учился и жил не просто в Москве, а в столице прогрессивного человечества, по существу, столице мира, в самом ее сердце, в 500 метрах от Кремля, в школе, где учились знаменитости, по сравнению с которыми остальные школы казались скучными и неинтересными. Таково было ощущение почти всех, кто учился со мной.
Я учился в период, когда в СССР пытались возродить гимназический дух. Что-то от духа старой гимназии вошло и в нашу среду. В школе царил культ знаний. Преподавателями в основном были старые учителя, многие из которых успели выучиться до революции. Левитин-Краснов утверждает, что до войны преподавание было лучше, чем после войны. Можно сказать, что оно было лучше и в первые послевоенные годы.
В первые дни моей учебы в школе №12 Степанов и Локшин насыпали мне за шиворот стеклянную вату. Я расчесал спину до крови, а ванная на Полянке работала плохо, так как ее не всегда было чем топить. Каково же было мое изумление, когда через пару недель я услышал радиопередачу «Пионерской зорьки», где рассказывалось о Локшине, как примере для подражания в учебе и поведении. Это было моим первым столкновением с откровенной ложью в средствах массовой информации. Раньше я слепо им доверял. С тех пор у меня возникло и стало крепнуть сомнение в их достоверности, а также желание проверить факты, о которых там говорилось.
Хотя стеклянная вата не повторялась, школа в первое время отнюдь не была для меня раем, ибо я был один из самых младших по возрасту, а также слаб физически после голода и холода.
Мы доберемся с пересадками до Третьяковки,
Где коровинские молодухи, не знавшие голодухи.
Савелий Гринберг
Совершенно неожиданно у меня вспыхнула любовь к искусству. Поводом для этого было мое близкое соседство с Третьяковской галереей, открывшейся после войны. Я погрузился также в энциклопедии, книги по искусству, журналы я читал в библиотеках. Я стал выписывать фамилии художников и названия картин, имитируя что-то вроде каталога. Первое место в них занимали русские художники, ибо Третьяковская галерея была галереей русского искусства. Я был всеяден, мне нравилось все: 18-й век, передвижники, Мир искусства, Суриков, Крамской, Перов, Шишкин, Маковский, Васнецов, Левитан, Сомов, Серов, Коровин, Рокотов, Венецианов. Это образовало во мне радужную картину, каждая деталь которой казалась волшебной и таинственной. Особое место в этом мире занимали великие Иванов и Брюллов. По сей день не «Явление Христа народу» Иванова, а его этюды к этой картине и нежный голубой цвет на складках брюлловской всадницы приводят меня в трепет. Волшебный мир портретов Кипренского, Тропинина и того же Брюллова создавал во мне идеалы человеческих лиц, которые служили для меня эталоном красоты и ума. Это потом влияло на мои пристрастия в человеческих отношениях.
Нельзя передать в нескольких словах впечатление от Третьяковской галереи, скажу лишь, что именно здесь сложились мои представления о русском искусстве. Эти залы столь отчетливо сохранились в моей памяти, что, когда я слышу или вижу имя русского художника, я мысленно подхожу к тому месту, где висели его картины.
Я читал книжки о Федотове, Кипренском, набрасывался на довоенные комплекты журнала «Юный художник».
Очень скоро я открыл и западное искусство. Я воспринял его как и русское искусство — в многообразии. Боттичелли, Леонардо, Микеланджело, Дюрер, Ватто, Пуссен, Гейнсборо, Веласкес не вытесняли друг друга, образуя собой сложную симфонию. С нетерпением я ждал, когда откроется на Волхонке Музей изящных искусств, и частенько прогуливался около него, видя ящики со слепками в его дворе и мечтая о дне, когда я все это увижу. Музей не открывался года два или три, а когда, наконец, открылся, разочаровал меня своим второстепенным или даже третьестепенным собранием.
Впрочем, в моей симфонии были ограничения. Я не понимал тогда иконописи — ни русской, ни западной. Ни зал русских икон в Третьяковке, ни собрание доренессансного искусства на Волхонке меня не привлекали.
В своей страсти к искусству я был совершенно одинок. Никто из моих приятелей и домашних этим не интересовался.
Среди книг, купленных отцом после моего рождения, был роскошный альбом репродукций Музея Нового Западного искусства, где были некогда помещены собрания Щукина и Морозова. В альбоме было несколько десятков роскошных репродукций Моне, Мане, Ренуара, Сислея, Сезанна, Матисса, Дерена, Дега, Ван Гога, Гогена, Вламинка, Утрилло, Брака, Пикассо. Каждая репродукция имела длинный пояснительный текст. Много раз с любопытством разглядывал я этот альбом и постепенно проникся пониманием красоты этого искусства. Вскоре я с волнением смотрел на стог сена в Оверни Клода Моне, на бульвар Капуцинок Писарро, на аквариум Матисса и на голубого старика Пикассо. Этот мир вторгся в меня в то время, когда все современное западное искусство было запрещено. Был разгар ждановщины, и обвинения в импрессионизме в мире художников носили политический характер.
Я оказался раньше других подготовлен к западному искусству, и когда значительно позже мои сверстники с трудом воспринимали даже импрессионизм, не говоря уже об экспрессионистах или кубистах, я неожиданно оказался их знатоком. Это невольно выталкивало меня из мира конформизма, ибо любовь к этому искусству была в то время почти равносильна политической оппозиции. И все это сделала одна лишь отцовская покупка, покупка, значения которой он не понимал. Он выбирал книги соответственно какой-то своей шкале ценностей, и эта шкала оказалась на поверку не такой уж плохой.
Вдохновленный примером отцовской библиотеки, часть которой сохранилась на Полянке, я попробовал собирать книги. Денег у меня, конечно, не было, и я стал откладывать какие-то крохи от моих без того ничтожных карманных денег. Для меня открылся мир букинистических магазинов. Особенно старался я отыскать недостающие тома собраний сочинений, которые отец в свое время выписал, но не успел выкупить из-за ареста. Не хватало нескольких томов Шекспира, Шиллера, Гете, Гейне, и на то, чтобы их найти, ушли годы. Каждый вновь приобретенный том доставлял мне живейшую радость и оставлял ощущение того, что я продолжаю дело, начатое отцом.