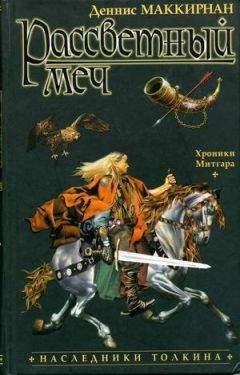— Ну, во-первых, не каждый, — возразил он, — а во — вторых, большая литература, «настоящая», — как ты сказал — она почти всегда создавалась на биографическом материале. Все, в конечном итоге, пишут о себе; о том, что они видели, что твердо знают. Знают по личному опыту! Кто таков, скажем, Печорин? Гарнизонный кавказский офицер — такой же, в принципе, как и сам Лермонтов… Толстой знал салонную жизнь и войну, и об этом писал. Изображать уральских золотоискателей он никогда не стал бы, точно так же, как и Мамин-Сибиряк, бытописатель Урала, — человек простой, провинциальный, бедный — не рискнул бы описывать семейство графов Ростовых. Понимаешь? Вот, то-то. А ты — биография! Это, брат, великая вещь. Она определяет все.
— Но есть ведь и другие примеры, — сказал я.
— Я говорю — о настоящих, — перебил меня Юра. И опорожнив рюмку, хрустнул огурчиком.
— Во всяком случае, — помолчав, сказал я, — обо всем этом пока еще рано думать; я не романист. Я поэт. Поэт, так сказать, чистой воды.
— Ну, правильно, — покивал Юра. — Поэт — а как же иначе?! Ты ведь только начинаешь… Таким путем идут, в принципе, все.
— Начинаю, — натужно выговорил я. — А не поздно ли? Знаешь, как бывает: пришел на вокзал, а поезд-то уже отбыл… В моем возрасте полагается быть зрелым мастером. Тот же Лермонтов, к примеру, в эти годы уже кончал…
— Ну, а Тютчев, Анненков, Крылов? — прищурился Юра. — Или Уитмен. Или Анакреонт — был такой античный лирик. Все они пришли в литературу не мальчиками, далеко нет! И вообще, суть не в том… Конечно, ты малость запоздал. Но ведь в нашем деле главное, не когда, а — как…
— Если бы точно знать — как? — вздохнул я.
— Вот тут-то как раз и нужна профессиональная среда, — поднял палец Юра, — творческие контакты, общение с мастерами. Потолкаешься среди них — многое поймешь.
И снова потянувшись к графину — возгласил:
— Давай-ка за контакты… И вообще — за твой приезд: это ты, во всяком случае, сделал вовремя.
— Нелегально — учти! — сказал я, — нелегально…
— А-а-а, плевать, — отмахнулся Юра. — Ты только не болтай с посторонними, не трепись.
И поворотившись к Ниночке — добавил:
— Знаешь, он чем-то мне напомнил сейчас наших отцов. Когда-то они вот так же воротились из Сибири — один из ссылки, другой с каторги, — и поначалу жили нелегально, прятались, готовились к перевороту…
— Ну, переворот мне вряд ли удастся, — мрачно усмехнулся я.
Я много выпил, и меня развезло, и может быть, именно потому во мне вдруг ожили, всколыхнулись и выплеснулись наружу все мои сомнения, глухие, тайные мысли… Весь этот вечер я казнился, развенчивал себя — и находил в этом какое-то странное, болезненное, мутное удовлетворение.
— История, как ты знаешь, повторяется или в виде трагедии, или в виде фарса. В данном случае, по-моему, — фарс…
— Но ты хотя бы не воспринимай это трагически, — пошутил Юра. И похлопал меня по плечу. — Вообще поменьше самокопаний. И побольше юмора. Делай свое дело! А я тебе помогу.
И потом — задумчивым жестом поправив очки:
— Послушай, если хочешь — я чиркну записочку к одному моему приятелю. Он работает в комбинате «Правда», в молодежном журнале. Парень деловой, толковый. И к тому же, мне лично обязан кое-чем…
— Нет, Юрка, — сказал я, — не стоит. — Я твердо это сказал, с некоторым даже вызовом. — Ты сам-то как пробивался — тоже бегал по Москве с записочками?
— Да нет, — засмеялся Юра.
— Ну, вот и я не буду.
— Но я же тут — свой! Я все в Москве знаю… А у тебя совсем другое положение.
— Ничего, — сказал я. — Как-нибудь. Хочу все — сам!
— А что, я его понимаю, — заблестев глазами, сказала Ниночка. — Я и сама бы — на его месте — так же…
— Пожалуй, — помедлив, проговорил Юра. И посмотрел на меня внимательно. — Пожалуй, старик, ты и прав!
* * *
С Юрой мы часто потом встречались и говорили о многом. Но этот наш разговор особенно мне запомнился. Ведь именно тогда, впервые, он натолкнул меня на мысль о биографической серии! Для того, чтобы мысль эта созрела и обрела конкретное воплощение, понадобилось много времени; прошло почти двадцать лет. Но и сейчас (когда я пишу эти строки) я помню с поразительной отчетливостью — как если бы это было вчера — все детали того вечера и общую атмосферу застолья, и Юрины суждения и советы.
Я отказался тогда от его помощи, захотел все — сам… И вот с тех пор начались мои хождения по московским редакциям.
Были эти хождения однообразны и, в общем, безрадостны.
Принимали меня в редакциях равнодушно, с ленцой… Да ведь и то сказать — что я являл собою? Провинциальный, начинающий, никому не ведомый поэт; таких по Москве бродило множество. Редакции кишели молодыми. И как-то выделиться в этом скопище было делом поистине нелегким. Особенно — с моими стихами, очень личными, сугубо таежными, лишенными гражданских мотивов. Редакторы бегло, вскользь, проглядывали их и тут же совали в стол, в груду пыльных бумаг, и затем советовали "заглянуть эдак дней через десять — пятнадцать". И когда я заглядывал — все повторялось заново, в том же порядке.
Все же я был настойчив — неутомимо обивал редакционные пороги. И так тянулись дни… А вечера я проводил вдвоем с Наташей.
Мы нередко — и допоздна — бродили с ней по городу. Так повелось почти с первых же дней… Наташа показывала мне старую Москву — запутанные переулки, глухие дворики, обветшалые, расписные особняки и церквушки — и удивлялась: как это я смог так основательно все позабыть? А ведь я, по сути дела, никогда и не знал хорошо Москвы; раннее мое детство прошло в дачном поселке, затем началась война, и стало не до прогулок. Ну, а после мне выпали иные пути… И теперь я, бродя по Москве, испытывал двойную радость. Радость узнавания, новизны — и щемящее, странное, какое-то восторженное, почти религиозное чувство близости к этой девочке. Мне было радостно — до дрожи, до головокружения — ощущать ее рядом, слышать запах ее, прикасаться к ней, как бы невзначай… И глядеть на нее, на этот профиль — с черной челочкой, чуть вздернутым носом и припухшей нижней губою, и ямочкой на щеке, и тугим завитком над ухом.
Как-то раз, утомясь от долгой ходьбы, мы завернули в крошечный, заросший сиренью, арбатский скверик. Спугнули в зарослях какую-то парочку. И с ходу заняли освободившуюся скамью. Я закурил, Наташа — с коротким вздохом — прижалась ко мне, прильнула плотно… И вот тут состоялся первый наш поцелуй.
— Ты знаешь, а я ведь — не умею, — прошептала она; нет, скорее дохнула, раскрыв теплые мягкие податливые свои губы. — Не знаю, как надо целоваться по-настоящему.