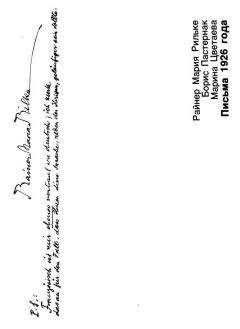Один критик сказал о Блоке: «Четыре года, отделяющие нас от его смерти, примирили нас с нею, почти приучили нас к ней» [152].
Я парировала: «Если достаточно четырех лет, чтобы примириться со смертью такого поэта как Блок, то как обстоит дело с Пушкиным (+1836) [153]. И как с Орфеем (+)? Смерть любого поэта, пусть самая естественная, противоестественна, т. е. убийство, поэтому нескончаема, непрерывна, вечно — ежемгновенно-длящаяся. Пушкин, Блок и — чтобы назвать всех разом — ОРФЕЙ — никогда не может умереть, поскольку он умирает именно теперь (вечно!). В каждом любящем заново, и в каждом любящем — вечно». Поэтому — никакого примирения, пока мы сами не станем «мертвыми» [154]. (Приблизительно, по-русски было лучше).
Это, конечно, не имеет отношения к «литературе» (belles lettres [155]), поэтому меня высмеяли. Будь это стихи (поэт (глупец!), который осмеливается писать прозой!), будь это стихи, они бы промолчали, а может, и — вздохнули. Не древняя ли притча об Орфее и зверях, к которым принадлежали и — овцы?
Ты понимаешь, я неуязвима, ибо я не госпожа Ц., и т. д. и т. п., как они всё же считают. Но мне грустно: вечно-правдивая и вновь повторяющаяся история о поэте и толпе, — как бы хотелось, все-таки избавиться от этого!
Твой «Орфей». Первая строчка:
И дерево себя перерастало... [156]
Вот она, великая лепота (великолепие). И как я это знаю! Дерево выше самого себя, дерево перерастает себя, — потому такое высокое. Из тех, о которых Бог — к счастью — не заботится (сами о себе заботятся!) и которые растут прямо в небо, в семидесятое (у нас, русских, их — семь!). (Быть на седьмом небе от радости. Видеть седьмой сон. Неделя — по-древнерусски — седьмица. Семеро одного не ждут. Семь Симеонов (сказка). 7 — русское число! О, еще много: Семь бед — один ответ, много.) [157]
Песня — это бытие [158] (кто не поет, еще не есть, еще будет!).
Но тяжелы и моря и горы... [159]
(словно ты утешаешь ребенка, хочешь придать ему бодрости... и — почти улыбаясь его неразумию:
...Но эти веянья... но эти дали... [160]
Эта строчка — чистая интонация (интенция), и, значит, чистая ангельская речь. (Интонация: интенция, ставшая звуком. Воплощенная интенция.)
... Нам незачем искать
других имен. Когда раздастся пенье,
раз навсегда мы будем знать — Орфей [161],
(именно это — Орфея поющего и умирающего в каждом поэте — я имела ввиду на предыдущей странице).
--------------------
Откуда он? Из нашего ли мира? [162]
И уже чувствуешь подступающее (близкое) Нет. О, Райнер, я не хочу выбирать (выбирать значит рыться и быть привередливой[163], я не могу выбирать, я беру первые случайные строки, которые еще хранит мой слух. Ты пишешь мне в уши, тебя читаешь ухом.
Эта гордость из земли [164]
(конь, выросший из земли). Райнер! Следом посылаю книгу «Ремесло» [165], там найдешь ты св. Георгия, который почти конь, и коня, который почти всадник, я не разделяю их и не называю. Твой всадник! Ибо всадник не тот, кто сидит на лошади, всадник — оба вместе, новый образ, нечто не бывшее раньше, не всадник и конь: всадник-конь и конь-всадник: ВСАДНИК.
--------------------
Твоя карандашная запись (так ли это называется? нет, лучше помета!) — легкое ласковое слово: к собаке [166]. Милый, это переносит меня в мое детство, в мои одиннадцать лет, то есть в Шварцвальд, в самую его глубь. И воспитательница (ее звали фройляйн Бринк [167], и она была омерзительна) говорит: «Этой дьявольской девчонке Марине можно все простить, когда она произносит: «собака!» (Собака — от восторга и нежности и нетерпения — завывая — с тремя а-а-а. То были не породистые собаки, — уличные![168]).
Райнер, величайшее счастье, блаженство прижаться своим лбом к собачьему, глаза в глаза, а собака, удивленная, оторопевшая и польщенная (не каждый же день случается!), начинает ворчать. И тогда зажимаешь ей обеими руками пасть — ведь может и укусить, от одного умиления! — и целуешь. Много раз подряд.
Есть ли у тебя там, где ты сейчас, собака? А где ты сейчас? Вальмон — так звали героя жестокой, холодной и умной книги: Лакло «Liaisons dangeureuses»[169], которая у нас в России — не могу понять почему, нравственнейшая книга! — была запрещена наравне с мемуарами Казановы (которого страстно люблю!). Я написала в Прагу, мне должны прислать мои две драматические поэмы (все же не драмы, по-моему): «Приключение» (Генриетта, помнишь? самое прекрасное из его приключений, которое вовсе не приключение, — единственное, которое не приключение) и «Феникс» — конец Казановы [170]. Герцог, 75 лет, одинокий, бедный, старомодный, осмеянный. Его последняя любовь. 75 лет — 13 лет. Это ты должен прочесть, это легко понять (я имею в виду язык). И — не удивляйся — это написано моей германской, не французской душой.
Касаемся друг друга. Чем? Крылами... [171]
Райнер, Райнер, ты сказал мне это, не зная меня, как слепой (зрячий!) — наугад. (Лучшие стрелки — слепые!)
Завтра — Вознесение Христово. Вознесение. Как хорошо! Небо при этом выглядит совсем как мой океан — с волнами. И Христос — возносится.
---------------------
Только что пришло твое письмо. Моему пора отправляться.
Марина
ЦВЕТАЕВА — РИЛЬКЕ
Сен Жиль-сюр-Ви,
Вознесение Христово, 13 мая 1926
...перед ним
не кичиться тебе проникновенностью чувства... [172]
Поэтому: чисто-человечески и очень скромно: Рильке-человек. Написав, запнулась. Люблю поэта, не человека. (Теперь ты, прочитав, запнулся.) Это звучит эстетски, т. е. бездушно, неодухотворенно (эстеты — те, у кого нет души, а только пять (часто меньше) острых чувств). Смею ли я выбирать? Когда я люблю, я не могу и не хочу выбирать (пошлое и ограниченное право!). Ты — уже абсолют. Пока же я не полюблю (не узнаю)тебя, я не смею выбирать, ибо не имею к тебе никакого отношения (не знаю твоего товара!).
Нет, Райнер, я не коллекционер, и человека Рильке, который еще больше поэта (как ни поверни — итог один: больше!), — ибо он несет поэта (рыцарь и конь: ВСАДНИК!), я люблю неотделимо от поэта.
Написав: Рильке-человек, я имела в виду того, кто живет, издает свои книги, кого любят, кто уже многим принадлежит и, наверное, устал от любви многих. — Я имела в виду лишь множество человеческих связей! Написав: Рильке-человек, я имела в виду то, где для меня нет места. Поэтому вся фраза о человеке и поэте — чистый отказ, отречение, чтоб ты не подумал, будто я хочу вторгнуться в твою жизнь, в твое время, в твой день (день трудов и общений), который раз навсегда расписан и распределен. Отказ — чтобы затем не стало больно: первое имя, первое число, с которыми сталкиваешься и которые отталкивают тебя. (Берегись — отказа! [173])