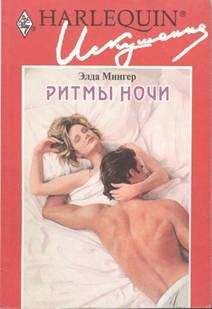Тщедушный, стриженный под машинку, с выпирающими ключицами, с просвечивающей кожей, он показался мне совсем зеленым юнцом. „Господи, — подумал я, — подростков сажают, почти детей“.
В зубах у подростка дымилась папироса. Мне вдруг нестерпимо захотелось курить. Вприпрыжку, поджимая зябкие ноги, я направился к нему и подошел вплотную.
— Эй, — сказал я, — лишней папиросы не найдется? Он скользнул по мне взглядом, прищурился, затянулся, кутаясь в дым. Потом, опустив ресницы, сказал застуженным, ломким каким-то тенорком:
— Последняя…
— Ну, так оставь затянуться!
— Ладно, — кивнул подросток и, оторвав зубами мокрый краешек мундштука, протянул мне окурок.
Он держал его деликатно — кончиками пальцев. И я невольно обратил внимание на форму его руки. Рука была узкой и слабенькой, и какой-то почти неживой.
— Затянись! — сказал подросток. — Отведи душу, если не брезгуешь.
Я взгромоздился рядом с ним на лавку, скрестил ноги по-турецки и так сидел некоторое время, помалкивая, мусоля тлеющую папиросу.
— На волю? — поинтересовался он затем. — Или на этап?
— На волю, — ответил я. — А ты?
— Тоже.
— Что-то они долго возятся. Не могут вещички наши найти, что ли?
— Так ведь на волю, — сощурился он. — Тут они не спешат…
И еще раз, искоса оглядев меня, спросил негромко:
— По болезни?
— Да… Сактировали. В общем, подвезло. Поперло!
— И меня, — сказал он жалобно. — И меня — по болезни…
— Да уж ясно!
Я провел ладонью по стриженой его голове, по склоненной детской тоненькой шее.
— Это сразу видать… Где ж это тебя так заездили? Ничего не осталось.
— Ничего не осталось, — повторил он и всхлипнул. Лицо его исказилось. По запавшим щекам протянулись ломкие полоски слез.
— И ничего уже больше не будет… Ничего, ничего!
— Ну, ну, — проговорил я растерянно, — перестань. Что ты, как баба? На свободу ведь идешь — радоваться должен!
Он затих под моей рукой. И легонько, доверчивым движением, прислонился ко мне плечом.
И в этот момент в глубине комнаты из-за перегородки раздался зычный голос каптера:
— Евдокимова Анна! Подходи — получай вещи! Товарищ мой вздрогнул и распрямился внезапно. И как только он поднялся с лавки, я понял, что это вовсе не парень.
Ошибиться было невозможно… Но, боже мой, как мало женского оставалось в иссохшем этом теле! Угловатое, лишенное плоти и сочности, оно вызывало щемящее чувство жалости.
Девушка, очевидно, и сама это сознавала; растерянно прикрываясь руками, она отвернулась от меня, потупилась с горькой гримаской и стремительно пошла, почти побежала к перегородке, туда, где маячила громоздкая, облаченная в халат фигура каптера.
Спустя минуту вызвали и меня.
Слежавшийся, мятый, пахнущий плесенью и мышами костюм налезал на меня с трудом… Но когда я надел его, оказалось, что он чересчур просторен и болтается, как на вешалке; плечи пиджака провисали, брюки сидели мешком.
Зато Анна — в пестреньком платьице и платочке — стала неожиданно нарядной и даже обрела кокетливый вид.
Легкий оранжевый этот платок освежал ее лицо и удачно сочетался с цветом глаз. Я только сейчас рассмотрел их по-настоящему; они были карие, большие, с золотистыми, дымно мерцающими искрами.
— Послушай, — сказал я, — ведь я поначалу не разобрался… А ты — интересная!
— Была когда-то, — вздохнула она, — ничего была девочка. В порядке. За это и погорела.
— А кстати — за что? По какой ты статье сидела — я и забыл спросить.
— Статья знаменитая, — ответила она, — С. О. Э. Знаешь?
— Нет.
— Будет врать-то!
— Честное слово, не знаю. Так все же — за что тебя?
— За проституцию, — сказала она просто. — А что было делать? Мама в сорок втором потеряла карточки, начался голод… Ну, я и пошла. С военными. С кем попало. Вот и пришили статью: „Социально опасный элемент“.
— А здесь, — начал я, — в больнице…
— Я знаю, о чем ты думаешь, — хмуро усмехнулась она. — Нет, у меня не то… Врачи говорят — каверны в легких, — и опять лицо ее ослабло, исказилось жалобно. — Это сейчас хуже любого сифилиса. Теперь у меня одна дорога — на Ваганьковское кладбище.
— Эй, фитили! — хрипло гаркнул каптер. — Хватит митинговать. Выходи давай, топай!
И вот наступил долгожданный миг свободы.
Я думал, что будут какие-нибудь новые процедуры, дополнительные сложности, но нет, все получилось на удивление легко и буднично.
Вахтер молча сверился со списком, затем отворил стальные клепаные ворота, пропустил нас и захлопнул их с тяжким грохотом.
— Тебе куда? — отойдя от ворот, спросил я Анну.
— Тут, недалеко, — махнула она рукой, — на Каляевской улице.
— Проводить?
— Да нет, ни к чему, — ответила она. — Как-нибудь погодя — если живы будем. — И потом, шатнувшись, подняв руки к лицу, сказала: — Ой, я совсем как пьяная! Дойдем-ка, миленький, вон до того угла…
На углу мы простились с ней. Но расстались не сразу. С минуту мы еще стояли здесь, озираясь, вбирая в себя забытые уличные запахи и цвета.
День незаметно кончился, угас, и все вокруг — очертания зданий и силуэты бегущих по тротуарам людей — все уже было смягчено и затушевано сумраком. Линии утратили четкость, краски стали влажны и расплывчаты.
А может быть, мир предстал нам таким из-за наших слез?
Анна плакала в голос, навзрыд. Я стоял рядом с ней, поддерживал се под локоть и чувствовал, как в глазах у меня тоже набухает соленая жгучая влага.
И чтобы избавиться от влаги, не дать ей пролиться, я торопливо запрокинул голову к небу.
Наконец-то, после полутора лет заключения, мне снова довелось увидать его — увидать целиком, от края до края… Небо было огромным и легким. Оно пахло весной, источало томящую вечернюю свежесть. Оттуда лились потоки голубого света — густели и затопляли округу. И вдруг простор окрасился по-иному, наполнился отблесками огня, стал ярким и радужным.
Это над нами — надо всей Россией — ударил новый победный салют!
Добрался я до дому уже поздним вечером, в потемках. Погода к ночи испортилась. Вспыхнул ветер. Упругий, пахнущий талым снежком, он настиг меня в двух шагах от подъезда, хлестнул в лицо и чуть не сшиб меня с ног.
Тюремный каптер, выдававший вещи, назвал нас с Анной „фитилями“. Он сказал точно; на арестантском жаргоне так называют слабых, беспомощных, „догорающих“. На этот счет существует немало всяческих анекдотов. Вот, к примеру, диалог двух лагерных фитилей: „Эх, — говорит один из них, — душа разгула просит! Пойдем, что ли, к бабам…“ — „Пойдем, — отвечает другой, — если ветра не будет“. Диалог этот вспомнился мне не случайно. Таким „догорающим“ был сейчас я сам!