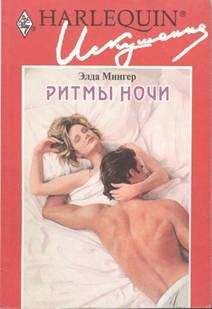Пошатываясь, цепляясь за стену дома, я с трудом преодолел последние метры пути, вошел в знакомый подъезд и лицом к лицу столкнулся с матерью.
Когда утих первый взрыв эмоций, она сказала, утирая платочком взмокшие от слез ресницы и щеки:
— Я уж думала, что с тобой что-то случилось по дороге. Хотела разыскивать.
— А ты разве знала? — изумился я. — Они ведь ничего заранее не сообщают.
— Я сегодня как раз звонила туда.
— Вот как? Туда можно звонить? Это что же — всем разрешается?
— Ну, насчет всех не знаю, — улыбнулась она. — Мне этот звонок один знакомый устроил… Из министерства. Я хотела справиться о твоем здоровье и заодно узнать: можно ли принести в передаче немного крымского кагора… Кагор очень полезное вино — лекарственное.
Насчет моей матери я, вообще говоря, никогда не испытывал ни малейших иллюзий. Но одно ее качество я все же должен здесь отметить. Передачи в тюрьму она приносила мне добросовестно и в любую погоду. Подумать только: в военной Москве — голодной, выстывшей и обнищалой — она ухитрялась находить молоко и фрукты. И даже крымский „лекарственный“ кагор!
Помнится, в самые первые дни ареста (я сидел тогда в районной милиции — дожидался отправки в тюрьму) мне однажды передали сверток с продуктами. В нем оказались яблоки, сахар, колбаса. Передача для заключенного — праздник. Для меня же этот праздник был особенно радостным: я ведь его совсем не ждал! Растроганный, я бросился к окошку (оно, по счастью, было без намордника) и, уцепившись за решетку, подтянувшись на руках, окинул улицу быстрым взглядом.
Улица была малолюдна, заснежена, бела. Над ней вилась рассветная мутная метель. И в косматых струях, в морозном волокнистом дыму, увидал я маленькую женскую удаляющуюся фигурку. Женщина брела, наклоняясь и увязая в сугробах. Затем она встала и обернулась, заслонясь рукавом от летящего снега, и я узнал ее — узнал мгновенно! И подумал вдруг с горечью о том, что раньше, когда я был на воле, она никогда так не заботилась обо мне, не хотела сделать ни одного лишнего шага…
И теперь, разговаривая с ней в подъезде, я подумал о том же. Чем объяснить эту ее странность, непостижимую эту переменчивость?
А может быть, такова вообще женская сущность?
Мы стояли возле кабины лифта. Я потрогал дверцу, спросил:
— Работает?
— Что ты, — ответила она, — какие теперь лифты! Ты прямо как с луны свалился.
— Именно — с луны, — пробормотал я. — По блатным поверьям, если человек умирает — он отправляется на луну… Я, в сущности, там уже и был. И спасся чудом.
— Ну и слава Богу, — сказала она. — А теперь пойдем! Ты что-то плохо выглядишь. Тебе надо лечь.
И потом, поднимаясь впереди меня по темной, замызганной лестнице:
— В квартире кое-какие перемены… Так что не удивляйся!
— А в чем дело?
— Здесь теперь еще одна семья живет.
— Как же так получилось? — огорчился я.
— Ну, мой милый, — она пожала плечами. — Тебя ведь не было. Квартира пустовала. Вот и решили нас уплотнить.
— Но ты-то была!
— Ах, что я, — отмахнулась она. — Ты сам знаешь, как мне трудно. Не могу же я разорваться на два дома!
— Значит, уплотнили, — сказал я, — так. И большая семья?
— Да немалая, — она запнулась, утомясь, прислонилась к перилам и медленно перевела дух. — Какой-то тип со своей матерью, с женой и маленькой дочкой.
— Кто же он такой?
— Не знаю. Имя его — Петр Яковлевич Ягудас. Судя по всему, хохол. А по профессии — жулик. Явный жулик! Ходит в военном, носит звание майора, а к армейским делам никакого отношения не имеет; занимается Бог знает чем.
— Чем же все-таки?
— Какими-то темными торговыми махинациями… Да ты сам увидишь и все поймешь; теперь ты в этом должен хорошо разбираться.
* * *
„Уплотнили“ нас, как выяснилось, весьма основательно! Из трех комнат оставили в моем распоряжении всего лишь одну. Здесь была теперь сгружена мебель со всей квартиры — стулья, шкафы, этажерки. Поначалу я долго путался среди этого скопища; ушибался, постоянно что-то ронял. Вещи мешали двигаться, не давали дышать.
Потом сосед предложил мне распродать излишек мебели. Я согласился. Он быстро нашел покупателей. И вскоре комната очистилась — обрела жилой и нормальный вид.
Я неплохо заработал на этой распродаже и оказался на какое-то время избавленным от нужды.
Ягудас стребовал с меня за комиссию пять процентов. „Это немного, — заявил он, — полагается больше. Но ведь мы, как-никак, — соседи! Свои люди! Да и вообще, моя партийная совесть не позволяет грубо наживаться на несчастии других…“
Дородный, пухлолицый, с обвисшими лоснящимися щеками и тонким, почти безгубым ртом, он был довольно-таки колоритной фигурой, этот мой сосед!
Он весь дышал благородством — тем самым театральным благородством, что отличает мошенников и картежных шулеров. Двигался он с подчеркнутой корректностью, говорил неторопливо и веско. И рассуждения о партийной совести являлись его постоянной излюбленной темой…
Чем он занимался, я так и не смог постичь. Дела Ягудаса были таинственны, знакомства — самые разные…
Нередко в гости к нему приходили военные; такие же вальяжные, как и сам он, такие же сытые, и все — в офицерских чинах.
— Мы коммунисты! — доносилось из-за стенки. — А это не фунт изюму. Чем коммунист отличается от нормального человека? Тем, что у него особая совесть — коммунистическая, а не мещанская! А это значит — что? Это значит, что для нас самое главное — идея. Мы все борцы за идею, солдаты партии… Одни на фронте, другие в тылу — это неважно! Да и неизвестно еще, где труднее, где больше риску. На фронте и дурак может прославиться, а у нас, в тылу, героизм незаметный, скромный…
Появлялись в доме и штатские люди — пронырливые, шустрые, с внимательными и скользкими глазами. С ними Ягудас беседовал глухо и коротко. И лишь изредка сквозь невнятное бормотание прорывались медленные его слова:
— Как я сказал, так и будет. По себестоимости, понял? И ни копейки больше! И ты меня на совесть не бери. В том месте, где была совесть, знаешь, что выросло? Знаешь, какой орган? Вот то-то…
И почти каждая такая тирада заканчивалась стереотипной фразой:
— Мы коммунисты!
„Кто же они, эти люди? — думал я, ворочаясь в постели. — Спекулянты? Мошенники? Или, может быть, взаправду партийцы новой формации?…“
* * *
Я о многом размышлял в эту пору — о себе, об окружающем мире. Чем больше я приглядывался к миру, тем отчетливее убеждался в том, что он нечист и лишен справедливости. Он создан не для слабых людей. В нем царят все те же уголовные правила; свирепые лагерные законы!