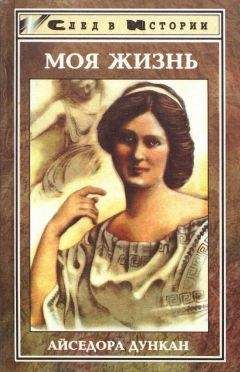Первый отзыв, довольно занятный, Рахманинова о музыке Скрябина я услышал в 1901 году во время репетиции его Первой симфонии, которой дирижировал Сафонов, бывший, между прочим, горячим почитателем Скрябина и весьма недолюбливавший Рахманинова, с которым когда-то не поладил.
Рахманинов, прослушав симфонию, сказал:
– Вот я думал, что Скрябин – просто свинья, а оказалось – композитор.
С тех пор он вдумчиво и внимательно следил за творчеством своего товарища и соперника в популярности, которая у обоих росла, хотя захватывала разные категории публики. Публика Скрябина и публика Рахманинова не была та же, было общее ядро, но в общем это были две публики разных эстетических установок.
Многое в творчестве Скрябина очень нравилось Рахманинову. Но очень многое его отталкивало и удручало – вкусы музыкальные у них были разные.
Скрябин же никогда не обнаруживал ни малейшего интереса к сочинениям Рахманинова – за ними не следил и большею частью их и не знал. Когда ему приходилось выслушивать его произведения, случайно или из дипломатических соображений, он физически страдал – так они ему были чужды.
– Все это одно и то же, – говорил он мне, – все одно и то же нытье, унылая лирика, «чайковщина». Нет ни порыва, ни мощи, ни света – музыка для самоубийц.
Скрябин не выносил музыки Чайковского – Рахманинов из нее весь вырос. Их родословие музыкальное было тоже отлично: Рахманинов образовался преимущественно из Чайковского и отчасти Шумана, Скрябин – из Шопена и Листа.
Физически они были тоже противоположны. Скрябин был маленький, очень подвижный, в молодости большой франт. Рахманинов был очень высокого роста, одевался без франтовства, но очень хорошо.
Как ни относиться к музыке Скрябина, но надо признать: наружность у него была неприметная – в публике он как-то не замечался. Рахманинов всегда был замечен, когда появлялся: внешность его была в высшей степени импонирующая, значительная – в его лице было что-то от древнего римлянина.
Скрябин был чрезвычайно неразговорчив и говорил только о своих планах и своих идеях. Он любил играть свои сочинения в кругу знакомых и показывать друзьям эскизы незаконченных сочинений, часто и таких, которые никогда не были закончены.
Рахманинов был в общем молчалив, о своей музыке совсем не говорил, проявлял скромность, которая как-то совсем не вязалась с его мировым именем.
Незаконченных сочинений никогда не показывал. О своем творческом процессе никогда не говорил. Внутренний свой мир, по-видимому, либо никому не раскрывал, либо, быть может, некоторым, очень близким людям, к которым я не принадлежал. У Рахманинова чувствовалась какая-то странная неуверенность, чуть ли не робость, непонятная в таком большом музыканте, вдобавок при жизни блистательно прославленном. В этом он напоминал Чайковского – тоже великого скромника.
Скрябин был всегда настолько уверен в своей неоспоримой гениальности, что об этом не полагалось в его присутствии никаких ни намеков, ни разговоров. Это считалось аксиомой. Со времени написания им Третьей симфонии – «Божественной поэмы» – он совершенно искренне считал себя уже величайшим композитором из всех бывших, настоящих и даже… всех будущих. Ведь, по его философии, он должен был быть последним из композиторов, ибо его последнее (не осуществленное) произведение «Мистерия» – должно было вызвать мировой катаклизм и вся вселенная должна была сгореть в огне преображения. Какие же тут могли быть еще композиторы?
Вагнер, правда, тоже считал себя величайшим из композиторов – но у него на это было и несравненно больше прав.
Все эти черты – самовлюбленность, мегаломания (фантастические планы) – в сущности, «клинические черты», которые все время, с ранних лет. примешиваются к облику Скрябина. Извиняет его то. что тогда время было такое – в моде было сверхчеловечество, всякие мистические прозрения и упования. Бальмонт, Блок и Андрей Белый порой провозглашали такие «прозрения», которые нисколько не уступают скрябинским. Он, по крайней мере. только говорил о них, а те печатали.
Но внутренняя прикосновенность Скрябина к символической эпохе несомненна. В сущности, он был единственным музыкантом-символистом.
Рахманинов ни к каким символизмам не был прикосновенен – он был только музыкантом. Никаких клинических черт у него не было, не было и ощущения своего сверхчеловечества – напротив, я считаю, что он является в плеяде русских композиторов, вместе с Чайковским, одним из «человечнейших» композиторов, музыкантом своего внутреннего мира. Наши «кучкисты», под некоторым влиянием которых находился первое время Рахманинов, были все несравненно объективнее, описательное, менее склонны к чисто лирическому состоянию.
Даже в общей им сфере пианизма они были полярны. Рахманинов был пианистом большого размаха, больших зал и большой публики.
Это был тип пианиста как Антон Рубинштейн, как Лист. Думаю, что он и уступал им только в широте своего пианистического диапазона, что естественно, так как его сильная индивидуальность не могла мириться с композиторами, чуждыми ему по духу.
Лучше всего он играл свои собственные сочинения и Чайковского, хуже у него выходил Бетховен и классики, и он был слишком материален в звуке для Шопена.
Скрябин выступал всегда в больших залах, но он делал это только потому, что считал ниже своего реноме и достоинства играть в маленьких. На самом деле он был создан именно для игры в салонах, даже не в маленьких залах – настолько интимен был его звук, настолько мало было у него чисто физической мощи.
Те, кто слышал его только в больших залах и не слышал в интимном кругу, не имеют никакого представления о его «настоящей» игре. Это был настоящий волшебник звуков, обладавший тончайшими нюансами звучаний. Он владел тайной преображения фортепианной звучности в какие-то отзвуки оркестровых тембров – никто с ним не мог сравниться в передаче его собственных утонченно-чувственных, эротических моментов его сочинений, которые он, может быть без достаточного основания, именовал «мистическими». Наверное, в этом роде когда-то играл Шопен. У Рахманинова была мощь и темперамент, причем одновременно в нем была какая-то целомудренная скромность в оттенках. У Скрябина была утонченность, изысканная чувственность и бесплотная фантастика, но все качества своей игры он несколько утрировал при исполнении – целомудренности не было.
Скрябин в течение своего творческого пути сильно эволюционировал. Его первые сочинения почти ничего общего с последними не имеют. Другие краски, иные приемы.
Рахманинов все время, подобно Шуману и Шопену, оставался ровен – не эволюционировал и не менял стиля, только мастерство его крепло. Последние его сочинения, написанные не в России, мне представляются несколько более сухими и формальными. Сейчас творчество его кажется как бы отодвинутым в девятнадцатый век. И музыка Скрябина сейчас тоже понемногу съезжает в прошлое: его новаторства уже давно не представляют собою непонятного нового слова в музыке. Напротив, сейчас его музыка представляется скорее чрезвычайно несложной, а присущая его последним сочинениям постоянная и неуловимая схематичность как-то стала выступать на первый план и иссушает впечатление от его последних творений.