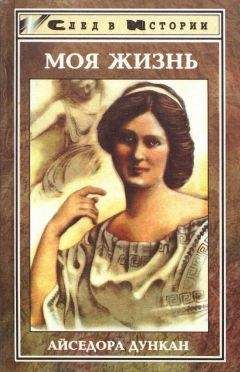Скрябин в течение своего творческого пути сильно эволюционировал. Его первые сочинения почти ничего общего с последними не имеют. Другие краски, иные приемы.
Рахманинов все время, подобно Шуману и Шопену, оставался ровен – не эволюционировал и не менял стиля, только мастерство его крепло. Последние его сочинения, написанные не в России, мне представляются несколько более сухими и формальными. Сейчас творчество его кажется как бы отодвинутым в девятнадцатый век. И музыка Скрябина сейчас тоже понемногу съезжает в прошлое: его новаторства уже давно не представляют собою непонятного нового слова в музыке. Напротив, сейчас его музыка представляется скорее чрезвычайно несложной, а присущая его последним сочинениям постоянная и неуловимая схематичность как-то стала выступать на первый план и иссушает впечатление от его последних творений.
Рахманинов всегда в своем творчестве был непосредственен и даже наивен – в Скрябине всегда было известное теоретизирование, известная головная работа. которую он сам в себе очень ценил. Порой его сочинения мне напоминали некую опытную станцию, где производятся «пробы», испытания и предварительное изучение.
Отчасти так и должно было быть. потому что ведь он всю жизнь собирался сотворить «Мистерию» и именно для нее готовил материалы.
Как творческая личность Скрябин мне представляется более одаренным, но слишком увлеченным новаторскими своими изобретениями. Он сам сузил себя, культивируя только свою новизну. Но как человеческая личность Рахманинов мне представляется значительнее, глубже и импозантнее. В нем была та последняя серьезность, которая явно отсутствовала у Скрябина, который, как выражались про него, «с Богом был на я», убежден был, что он – Мессия. Может быть, сам хотел себя убедить, но в одном случае получается клиника, а в другом легкомыслие [048].
И тот и другой как-то мало проникли в западную музыкальную современность, как-то несозвучны современному музыкальному климату. Во Франции, в частности, их и мало играют, и мало знают, Скрябина в особенности. Когда же слышат, то обычно оба не нравятся. Французское музыкальное звукосозерцание вообще развивается по совершенно иным линиям, чем русское. Французский музыкальный вкус предпочитает музыку менее субъективную, предпочитает Римского-Корсакова, Бородина, Стравинского – более описателей, чем романтиков. Русская романтическая лирика – Чайковский, Рахманинов, Скрябин, при всех своих различиях, тут кажутся неприятными своей чрезмерной музыкальной откровенностью – «выворачиванием души».
Тут любят больше, чтобы музыка о внутренних переживаниях не очень высказывалась, была бы сдержаннее. Это, по всей вероятности, непоправимо – такова вкусовая установка. И Рахманинова, и Чайковского, и Скрябина тут обвиняют в отсутствии вкуса. А вкусы, как известно, бывают разные, и кто может судить, чей вкус лучше и где начинается вкус и кончается мода.
В общем, им не повезло и моды на них не установилось. Только в самой России до сих пор играют с удовольствием и Рахманинова, и Скрябина, и Чайковского и считают их в пантеоне «великих».
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О РАХМАНИНОВЕ.
ПРАВДА И «МИФЫ»
Сергея Васильевича Рахманинова я знал очень давно – с моего семилетнего возраста, когда мы оба учились у одного и того же Зверева, у которого учился и Скрябин.
Зверев был выдающейся личностью на характерном и специфическом «московском» музыкальном горизонте, который сильно отличался по «жизненному» стилю от петербургского. Стиль этот задавала сама атмосфера Москвы – более русская, менее приглаженная, чем чопорный и бюрократический и «придворный» Питер. Тут было раздолье для «широких русских натур», – петербуржцы были более дипломатичны, менее открыты, более «европейцы». В музыкальном мире тон и стиль задавал Николай Рубинштейн – «московский Рубинштейн», и он сам был выполнен в «московском стиле», тогда как его брат – Антон – принадлежал к «петербургскому стилю». Московский стиль был хорошо всем известен: московские музыканты вели «угарный» образ жизни – более ночной, чем денной, ночевали в ресторанах (в «Эрмитаже» – московском «главном» очаге пиршеств – их часто запирали «на ночь»): в эту кутящую хронически атмосферу входили не только музыканты, но и других наименований артисты – и представители крупной московской буржуазии.
Зверев был типичным представителем этого круга. Никто никогда не слышал на моей памяти, как он играл на фортепиано. Он был ученик старого Дюбюка. Тогда я был мальчиком и конечно ничего об этих «оргиастических» упражнениях не знал – узнал уже потом, причем легенды и мифы были спутаны в один клубок с подлинными фактами – так что разобраться в них было очень трудно. Я учился у Зверева у себя дома – он приходил к нам давать уроки [049]. Рахманинов учился в консерватории и жил у Зверева, который, прожив два состояния, стал преподавателем Московской консерватории. Сдается мне. что не столько за свои музыкальные качества, сколь именно за причастность к этому «оргиастическому миру», к которому принадлежали почти все московские музыканты (за исключением одного Танеева). Зверев в эти годы держал «пансион» для своих учеников – между прочим, он брал к себе только наиболее способных и с них ничего не брал ни за пансион, ни за уроки.
Рахманинова я увидел в первый раз в консерватории – он был старше меня на восемь лет. Тогда это был юноша необычайно длинный и очень серьезный. Зверев часто в эти годы бывал «нездоров» (после чрезмерных пиров) и тогда не мог давать мне урока и присылал одного из его любимых учеников из своего «пансиона». Таким образом как-то раз пришел мне давать урок Рахманинов – скромный и застенчивый и, видимо, не очень расположенный к даванию уроков. Потом уже много годов спустя он мне говорил, что «хуже меня нет на свете преподавателя музыки». Кроме Рахманинова таким же манером приходил меня учить Максимов (пианист, будущий директор одной из провинциальных консерваторий) – тоже из зверевского пансиона.
В этом пансионе было как бы «музыкальное семейство», с добрым, но строгим «папашей»
– Зверевым, которого все очень любили. Мое личное впечатление от него было смутное: на мой взгляд, он по природе не был настоящим педагогом, но он имел огромную способность заставлять любить музыку, что, возможно, было лучше всяких «постановок рук».
Несколько лет спустя между Зверевым и Рахманиновым произошло что-то, что так и не выяснено до сих пор точно. Тут мы переходим в область тех мифов, которые в Москве переполняли музыкальный мир. Со всеми ими я познакомился уже гораздо позднее. Официальная версия разрыва Рахманинова со Зверевым гласит. что Рахманинов, живший, как я уже говорил, в пансионе у Зверева, «потребовал», чтобы Зверев ему отвел особую комнату для того, чтобы он мог заниматься композицией, и поставил ему отдельный инструмент. Те, кто знавал Рахманинова, знал его необычайную корректность и деликатность в обращении с людьми, все равно – близкими или далекими, – вряд ли могут счесть вероятным, чтобы Рахманинов – ученик, притом бесплатный и любимый, мог выставлять подобные требования по отношению к своему наставнику. Тем не менее произошло что-то, кончившееся чем-то вроде «потасовки» между учителем и учеником, и в итоге Рахманинову нельзя было уже оставаться у Зверева. Только в начале нашего века московский музыкант Сахновский, большой приятель и Рахманинова и Зверева, мне рассказал, что дело было совершенно иного порядка и сводилось к тому, что Зверев (как и очень многие музыканты и поэты того времени) страдал древним пороком (как Чайковский, Апухтин, актер Давыдов и очень многие другие…) и Рахманинов просто отверг его «поползновения», будучи человеком изумительной чистоты нравов и высочайшей морали. Это – более правдоподобная редакция, но насколько она совпадает с истиной – остается навеки неизвестным. Как бы то ни было, разрыв длился несколько лет и закончился только в день выпускного экзамена Рахманинова. Зверев подошел к молодому триумфатору, получившему золотую медаль (до него только Танеев и Корещенко получили эту награду) [050], обнял его и, сняв с себя золотые часы, возложил их на своего бывшего ученика. Осенью следующего года Зверев умер.