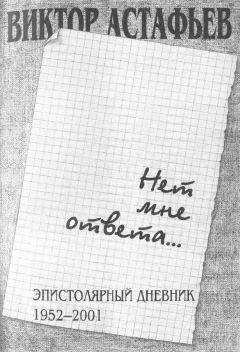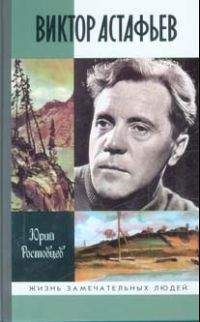Господи! Господи! Смотришь на всё это и понимать или ощущать начинаешь, что вместе со мною, с нами и Россия свой срок доживает...
Прости, пожалуйста, но эти ощущения так и не оставляют меня, слезят моё сердце. Кланяюсь. Виктор Петрович
3 октября 1997 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!
Вот и до третьего письма дошло дело, хотя писать его я собирался всё лето. Но накатило! Хотел остатки наброска третьей книги поставить в 13-й том как набросок некоей давней рукописи, из которой я уже извлёк «Так хочется жить» и «Обертон». Но когда начал править, увлёкся и вместо того чтобы летом отдохнуть, залез в рукопись и сделал вариант повести «Весёлый солдат», аж на 12 листов! Унесло графомана! Сейчас повесть получил с машинки (Бог дал в библиотеку Овсянки такую работницу, которая ведёт все «мои дела» и научилась разбирать почерк).
Поездка на Урал была перенасыщенной не только впечатлениями, встречами и нагрузками всякого рода, так что после неё я не смог сесть за стол, а убирался в огороде, собирался в город и вот 30-го покинул домик свой чуть ли не с плачем, ибо у нас здесь проходит съезд славистов (международный) и мне надо было на нём быть и беседовать со славистами, среди которых были не просто хорошие, но и восхитительные люди, в первую очередь из Томского университета, которым я пособил получить Госпремию, а они привезли мне корзину водки с названием «Ностальгия», на одной из бутылок изображён герб СССР с серпом и молотом. Вчера мы её у нас в доме вместе с томскими гостями опробовали, а ещё часы мне ручные подарили, очень красивые.
А завтра рано утром улетаю в Москву и оттудова 6-го утром — в Брюссель. на конгресс творческой интеллигенции Европы (кто-то вспомнил обо мне и замолвил слово). Поеду, встряхнусь, побеседую с умными людьми и, возвратясь с просвещённой головой, буду продолжать заканчивать работу над повестью. Цикл из трёх повестей о послевоенной жизни избавляет меня от писания третьей книги романа. Мне её, понял я на повести, уже не осилить.
Годочки-то не романные. Может, отпишу наиболее «наболевшие» куски и перейду писать о природе — для удовольствия души. Что-то мне не удаются никакие удовольствия-то. Пять суток в тайге с Андреем на Сисиме да поездка в деревню Тёмную и Быковку — вот и все удовольствия. Несмотря на помпезную встречу на Урале, увёз я оттуда больше печали, чем радости, но это — как писал Ключевский, «было бы сердце, а печали найдутся», — уж на роду мне написано.
Самая большая радость заключается в том, что я, кажется, добыл деньги для проведения в будущем году «Литературных встреч», и мы уже начали к ним подготовку. Где, как добыл — долго рассказывать. Завтра я вроде бы попаду на приём к новому министру культуры и буду хлопотать о закреплении в постоянном плане «Литературных встреч» и переводе нашей библиотеки под какую-нибудь нездешнюю крышу. Здесь начинает работать та же жестокая провинция, что и Ивана Васильева доконала: из зависти жуют наших библиотекарш и готовы эту треклятую библиотеку раскатать по кирпичику, да и раскатают, когда меня не станет, потому надо творение это как-то защитить.
Лето у нас началось в середине марта и продолжается до сего дня. Урожай небывалый, правда, в сенокос и в начале уборочной лило и лучший урожай выбило градом, но без этого уж, видно, на Руси не бывает, чтобы уж всё-то хорошо было.
Вот из поездки на Урал привёз тягость в душе. За мной в Екатеринбург приезжал сын Андрей и его друг, скорее уже брат — чусовлянин Витя Шмыров, что бьётся над мемориалом в Кучино, и они почти ходом (начальство встретило на границе района хлебом-солью, с девками, наряженными в кокошники) и под «мигалку», уже свою (из Екатеринбурга везла пермская машина-мигалка), под надзором начальника милиции Чусового завезли на фуршет, а Леонард выслал Ольгу, чтоб мы без разговору ехали к нему — «он приготовился!» Я уже раскис и устал, уехал с ребятами в Тёмную, где ребята мои загуляли И спать не давали, и в 3 часа ночи я на них фыркнул, и братва с понятием — унялась. А назавтра приезд губернатора, посещение мемориала и большое застолье. О-о-ох, Господи! До чего ж надоело всё и эта «детская жизнь» — тоже.
С музеем, домиком моим чусовским, дело движется, но так ли своеобычно: избушку обносят литой оградой, как Летний сад в Петербурге, и никто не хочет понимать, в том числе и Леонард, неуместности этакой роскоши, и сам уж музей, наверное, ни к чему. Как представлю, чего в нём нагородят — оторопь берёт, одно и утешение, что я этого не увижу. Марья Семёновна продолжает хворать, но хорохорится, по дому всё делает, с Полькой борется за учёбу и опрятность, успехи невелики и переменны. Вернусь я домой числа 10—11 октября, уже будет зимно, но отопление включили, может, и эту зиму перевалим. Чего и тебе, и парням твоим желаю, и жене.
Видел в мастерской у Широкова картину-триптих его ученицы: Леонард, ты и я. Тебя они изобразили, конечно же. архангелом со свято взнятым в небо взором. О. святая провинция! Куда от неё деваться! И надо ли деваться? Столичная провинция ещё пошлее и заковыристей.
Обнимаю. В. Астафьев
1998 год
10 февраля
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!
И я уж начал подумывать, что чего-то умолкнул критик, поди-ко, литература остановилась, один я зачем-то и чего-то еще пишу, да ещё в «Литературке» новая волна мыслителей разбирает и обмысливает творцами современности варимую словесность — при этом ребята, литературой вскормленные, от неё же и хлеб насущный имеющие, совсем попрали земные ощущения и ориентиры дорожные, что прежде называли верстовыми столбами.
Дмитрий Быков, красивый, сытый парень, бойчее двух Ивановых вместе взятых, мыслящий взахлёб, восторгается литературой, исходящей от литературы, причём не от лучшей. Да и Курицын, и оппоненты евонные как бы и не замечают, что литература от литературы приняла массовый характер и давно уже несёт в своём интеллектуальном потоке красивые фонарики с негасимой свечкой, обёртки от конфеток, меж которых для разнообразия вертится в мелкой стремнине несколько материализованных щепок, оставшихся от строившегося социализма, и куча засохшего натурального говна. Белокровие охватывает литературу, занимающуюся строительством «новых» направлений на прежнем месте и из уже давно отработанных материалов, причём не тех материалов, что находятся за усьвенским мостом в отвалах, в которых ради выплавленного чёрного чугуна лежит остывшая масса драгоценнейших материалов, иль отвалов сибирских золотых приисков, когда оказывается в отработанном песке золота больше, чем добыто в шахте иль шурфе. Нет, в продукции, которую сработали Пушкин, Лев Толстой, Достоевский и Лесков, только ценные металлы, и когда ими аккуратно, понемножку пользовались, они украшали любое литературное изделие, порой делали его бесценным. Но когда едят литературу прошлую, как иманы афишу, начинается самопоедание, разжижение крови, обесточивание мысли, обессиливание слова и смерть, которую жизнерадостные критики в силу своей беспечной, святой молодости, конечно же, не чуют и не понимают, да и не надо им этого понимать, как нам, молоденьким солдатикам-зубоскалам на фронте не дано было понять, что его, солдатика, тоже могут умертвить. Однако ж, потрезвее, пореалистичней полагалось бы быть, а то городят, городят словесную городьбу и частокол без единого гвоздика, лезь кому не лень следом в огород, таскай на грядах всё, что растёт, не отличая картошку от огурца иль тыквы, вари критическую похлёбку.