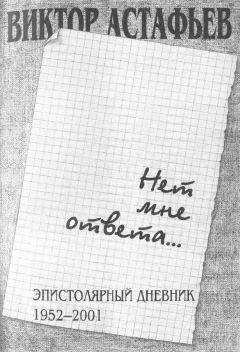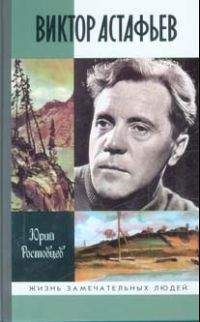Шестьдесят лет, Витя, противная дата, по себе знаю. Тут как бы упираешься в срок, полученный на суде Божьем, всё ты жил, жил, избывая тебе положенные дни, а дальше уж ты сверхсрочник, уже не живёшь, а доживаешь. Хвори плотнее подступают, редеют родственники, куда-то в тень, что ли, западают друзья и товаришшы. Уж на общих фотокарточках оказывается всё больше мёртвых, чем живых, и меня вот настигла болезнь-наваждение пенсионная — читать некрологи в газетах и смотреть на кладбище, кто, как и где лежит, да прикидывать, как я тут размещуся. А размешуся я рядом с дочерью, устала она там одна, да и дружнее, а может, и теплее вместе.
Мне идёт 74-й год. и все эти «чудачества» уже мне простительны, а тебя пусть минуют сии «блаженства», сулящие мысли и закидоны совсем нешуточные, но зато вечные.
По возможности будь здоров, пусть пол крышей дома твоего будут мир и покой, а на столе не переводится хлеб и соль, да хоть иногда пусть пишется и думается о работе, что только в ней. нашей изнурительной и прекрасной работе есть и забвение от дней и дел текущих, от действительности этой проклятой, от зла и одичания земного.
Я вот вместо того, чтоб летом отдохнуть, втянулся в работу и заканчиваю повесть под хорошим названием «Весёлый солдат». Она как бы замыкает цикл повестей о послевоенной жизни — «Так хочется жить». «Обертон». «Таёжная повесть» — о сверхтяжёлой жизни нашей с Марией Семёновной, которая совсем у меня рассохлась, но ещё держится ради внучки, хотя из дома уже почти не выхолит, да и дома-то чаше лежит. Это она-то. пешком не умевшая ходить, а только бегом!
На неделю ездил на Урал. В Чусовом откупили мой домик и хотят открыть в нём филиал местного этнографического музея под хорошим названием «Мария». Побывал в мемориале политзаключённых, даже в камере, где страдал Лёня Бородин. Подивился на дела красных, которые снова предлагают народу свои услуги. Четвёртого лечу в Москву, оттуда в Брюссель на конференцию творческой интеллигенции Европы.
Обнимаю тебя и целую. Поклон всем твоим близким и друзьям. Преданно твой Виктор Петрович
30 сентября 1997 г.
Овсянка
(О.М.Хомякову)
Дорогой Олег!
Я в ужасе! Ещё в августе отсюда, из Овсянки я тебе отправил рукопись твою вместе с моим ответом на все твои вопросы. Всё я получил и даже сверх того письмо от твоей жены, которая, как и современные истинные патриоты, считает, что я неправильно живу и не за тех голосую.
Рукопись твоя пришла не вовремя. Я как раз добиваю повесть «Весёлый солдат» и почти уже добил. Рукопись «внеплановая», пожравшая мой летний отпуск и последние силы (сейчас я её правлю с машинки), аж на 12 листов повесть. Ну и от текущих дел меня никто не освобождал — письма-просьбы, предисловия, обращения куда-то к кому-то, посетители, заявители, интервьюеры, мать бы их, ну и знакомые гости бывают, такой, например, чудесный парень-мужик, певец Хворостовский, а надысь генерал Лебедь заглянул. Тоже мужик занятный. Я его обедом накормил и под обед денежек под «провинциальные чтения» выпросил. Ликуй, Хомяков, живы будем — в сентябре будущего года увидимся!
Ну и хорошо, быть может, что ты ответа моего не получил. Невоздержан и горяч я порой бываю. Надеюсь, рукопись-то не в одном экземпляре? А если в одном, тогда не знаю что и делать. По рукописи основное замечание — это не книга о старшем друге, а панегирик, юбилейная речь со множеством неточностей, биографических и прочих, много в ней сумбура, провинциальщины и пр. пр.
Вот через два дня я уже отправляюсь в город. А неохота-то как! Мне не хватило ровно ещё одного лета, чтобы управиться с повестью и со всеми делами, которые я на себя взвалил. Готовлю 12-й том (публицистика) и 13-й, с повестью, пьесами, сценариями, отрывками, вариантами. И запурхался же я! Вот решил восстановить «Ловлю пескарей в Грузии» и послесловие к рассказу дать, чтобы отвести весь туман и ложь, которая нагромоздилась вокруг рассказа, и снова сотня страниц.
Давление скачет, даже утром бывает высокое, а между всем этим творчеством на неделю съездил на Урал. Сын Андрей и его чусовской дружок встретили меня на машине, да ещё и мигалку по распоряжению губернатора к ней присобачили. Побывал я в мемориале «сталинских жертв», и в избе своей побывал (её отдают под музей), и на кладбище побывал в Чусовом. и в Перми, в Быковке побывал, многих увидал, и приехал совсем усталый (стар ведь, хотя душа и не соглашается. «Душа всё ещё хотела б быть звездою!» — по Тютчеву).
Закругляюсь, поздно. Обнимаю, твой Виктор
2 октября 1997 г.
(Н.Гашеву)
Дорогой Коля!
Я выехал из деревни с большой неохотой и сожалением — работу над повестью не завершил, не хватило ровно одного ещё лета на все дела.
Четвёртого утром улетаю в Москву, а оттудова с делегацией в Брюссель на конгресс творческой интеллигенции Европы. Вернусь уж ближе к середине октября и возьмусь за повесть. Она с машинки, и работы ещё много. Когда закончу, сделаю ксерокопию и для тебя, а ты уж сам выберешь, что посчитаешь нужным. Наверное, я к юбилею вашему с повестью не успею, да не беда, автор я совсем не юбилейный, а повесть эта. завершающая цикл из трёх повестей — «Так хочется жить», «Обертон» и вот теперь «Весёлый солдат», — и вовсе не юбилейная. Но три эти повести избавили меня от надобности писать третью книгу романа. Напишу несколько наиболее выношенных кусков и начну писать только о природе, о ягодах, собаках, об осени и весне, то есть тешить душу на старости лет хотя бы творческими радостями.
Ошеломляюще быструю и перенасыщенную впечатлениями поездку на Урал нес ещё внутренне «не освоил», вес ещё там. среди добрых людей, гор, лесов и остановившейся на каком-то смиренном всплеске жизни.
Господи! Уж не знаешь чему радоваться и о чём горевать. Всё вместе смешалось, и радость, и горе. «Было бы сердце, а печали найдутся». — сказал когда-то Ключевский, и печали в моём сердце всё находят место, всё свёртываются там тайным и знобящим комочком. Едем по хребту Урала — по хребту! — а над ним смог непроглядный и указатели: слева Первоуральск, справа Сургут и трубы, трубы, трубы. А лесишко не весь высох, болезненно и празднично желтеет, и река Чусовая как-то остыло, неподвижно и жалко пред этим смогом, пред этим осквернённым небом, словно изнасилованная старуха, не течёт, а лежит среди жёлтых трав неподвижною тёмною водою. Какие-то копешки темнеют вдали, какие-то люди роются в земле, извлекая из неё картошку.
Господи! Господи! Смотришь на всё это и понимать или ощущать начинаешь, что вместе со мною, с нами и Россия свой срок доживает...
Прости, пожалуйста, но эти ощущения так и не оставляют меня, слезят моё сердце. Кланяюсь. Виктор Петрович