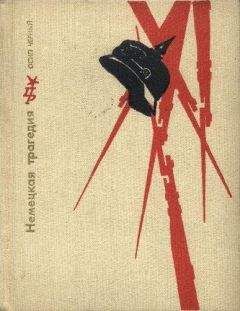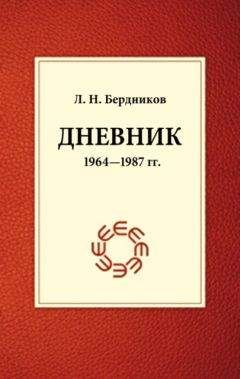…Из перевязочной на минуту вышла сестра. Два солдата, один с забинтованной ногой, другой с повязкой на спине, остались наедине. Они уже два-три дня присматривались друг к другу и даже обменялись несколькими словами. Оба смотрели на происходящее не слишком радужно.
Солдат, раненный в ногу, мрачно заметил:
— Сколько крику было о том, что рабочие должны объявить войну войне! А на поверку вышла одна болтовня!
— Может, это нам с тобою не видно, — заметил осторожно второй, — а руководители знают, в чем дело? Знают побольше нас?
— Ну, а мне что от их знания? Мы с тобой в темноте!
— Это верно.
— А воевать пришлось нам, и пулю вогнали в нас.
— Тоже верно, — согласился второй. — Тебя как звать-то?
— Кнорре… А ты?
— А меня зовут Гольц. Значит, будем знакомы.
Прошло немного времени. И вот дошел до них слух, будто депутат Либкнехт обвинил рейхстаг в том, что он обманывает народ и бесцельно гонит людей на смерть.
Опираясь на костыль, Кнорре стоял возле окна и наблюдал, как выгружают во дворе новую партию раненых. Санитары с носилками ловко вытаскивали их одного за другим и относили в госпиталь. Одна машина отходила, за нею под разгрузку становилась следующая.
— Наша лавочка пустовать не будет, — мрачно заметил Кнорре. — Работают, можно сказать, на совесть.
— Этого товару много, — согласился Гольц. — Приходится шевелиться.
— И перемалывают нашего брата хорошо. Ты сколько времени воевал?
— Недель пять, не больше.
— А я еще меньше. Одних увозят, зато других подбрасывают, чтобы жернова не стояли.
Вдоволь насмотревшись, Кнорре, с густыми темными бровями на жестко очерченном лице, заметил, не глядя на соседа:
— А один все ж таки сказал об этом во всеуслышание.
— Что сказал?
— То, что думаем мы с тобой.
Гольц осмотрительно возразил:
— Про то, что думаю я, у нас с тобой разговору не было.
— Да уж действительно, нельзя догадаться…
Впрочем, потом они признались друг другу, что давно уже не верят тому, что пишут о войне в газетах. Кроме того, они слышали, что в госпитале в Льеже работает врачом брат депутата Либкнехта. Он потихоньку пересказал кое-кому выступление Карла в рейхстаге.
— Что же, Карл так всю правду и выложил?!
— Ну, этого ему не дали, но правда не иголка, ее не запрячешь. Теперь гуляет из лазарета в лазарет, из части в часть. Наш брат сумеет как-нибудь сравнить то, что пишут, с тем, чего сам нагляделся. Ему понять Либкнехта легче.
Выкурили по сигарете, достали из пачки по второй. Мимо сновали сестры, санитары, няни. Провезли в каталке офицера с ногой в гипсе. Кресло осторожно катила тощая медсестра в повязанной не без кокетства косынке. Она строго посмотрела на обоих солдат.
— Эта вредная, — заметил вслед ей Кнорре, — с нею надо быть осторожным.
— А что, на неприятность кто напоролся?
— Одному в нашей палате начала выговаривать: мало что понимает, мол, а рассуждает слишком свободно; если она еще раз услышит такое, то доложит начальству.
— Доносчица, смотри, пожалуйста!..
Так между ними установились отношения большего доверия.
В следующий раз, когда встретились, Гольц спросил:
— Нового чего не слыхал?
— Это же не газета: купил за свои пфенниги и узнал про все. Теперь, если что и узнаешь, стараешься передать потихоньку. Присмотришься, поглядишь, как ведет себя человек, а потом уже решишь, можно ли быть с ним откровенным. — Затем неожиданно спросил: — Ты чем до войны занимался?
— Я? — переспросил Гольц и охотно ответил: — Пиво по столикам разносил, в пивной работал.
— А-а… — в голосе Кнорре послышалось разочарование.
— А ты?
— Паяльные лампы изготовлял в Бремене. Было такое предприятие: не Крупп, конечно, но порядочное.
— Значит, рабочий? Я думал, вашего брата оставили на заводах.
— Тех, без кого было нельзя. А от некоторых им лучше было освободиться.
Разговоры их продолжались и в следующие дни. Чуть-чуть задевая прошлое, они больше касались того, как вести себя дальше.
Про госпиталь в Льеже, где работал брат Либкнехта, стало известно; что там ведет нелегальную работу группа солдат, сумевших разобраться в том, что происходит. Надо бы, решили оба, и здесь привлечь кое-кого и вообще держаться теснее.
Группки недовольных возникали то в одном месте, то в другом. Толчком чаще всего служила непроизнесенная речь Либкнехта.
XXVII
Он не предвидел сам, что его «нет!» будет иметь такие последствия. Ведь им руководила потребность отмежеваться от вероломной позиции партии, с которой его связывало почти полтора десятка лет. Но молва о голосовании в рейхстаге распространялась, и Либкнехт все более убеждался, что шаг его был единственно верным в данных условиях. Роза Люксембург и Клара Цеткин откликнулись сразу, заявив, что он поступил как истинный революционер.
Мысль, что он участвует в чем-то постыдном, преследовавшая его после четвертого августа, больше не тяготила. Теперь он вновь был последовательным социалистом и отстаивал принципы братства народов. Разоблачение правителей, выведение их на чистую воду сделалось неотложной задачей.
Заходя в районное партийное бюро, Либкнехт избегал вступать в споры с товарищами. Там вели себя так, как этого требовал Форштанд, и не скрывали своего осуждения. У него хмуро спрашивали, как это он осмелился пойти против большинства.
— Но если большинство ведет партию в болото, не лучше ли сказать это вслух? Потребовать, чтобы оно повернуло, пока не поздно, в другую сторону?
— Одному вам отпустили истину полной мерой! Руководство слепо, зато Карл Либкнехт все знает!
— Видите ли, Либкнехту дух оппортунизма был ненавистен всегда. Уж если речь обо мне, скажу, что четвертого августа я в угоду дисциплине пожертвовал правдой, и это была ошибка — грубейшая со стороны социалиста. Сейчас я защищаю правду.
— Но такая ваша позиция может привести к самым суровым последствиям для вас.
— Что поделаешь, каждый платит по счету…
В вопросах Сони Карл улавливал все возраставшую тревогу. Он не столько готовил ее к тому, что может случиться, сколько пытался успокоить.
— Конечно, испортить мне жизнь они постараются. Но одного отнять у меня не смогут — того, что я депутат.
— А разве депутата засадить в тюрьму нельзя?
— Пока что, Сонюшка, я такой опасности не предвижу.
Он ходил по кабинету и что-то обдумывал. Соня обратила внимание на то, что у него нервно дергается щека. — Что же это такое? Ведь прежде же не было!
— Бывало, только не бросалось тебе в глаза.
Либкнехт остановился, взглянул на нее; в глазах у него мелькнул задорный огонек.