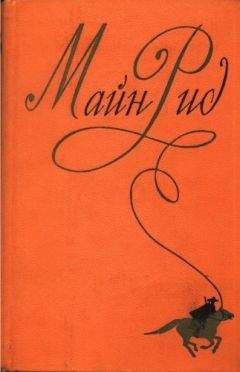Надзиратель открыл дверь камеры, хорошо знакомой по рассказам Миши. Вот сволочь, обязательно нужно запихнуть меня в карцер, а не в обычную камеру изолятора. Здесь, на бетонном полу, без обуви и верхней одежды, за три дня можно загнуться. Дали, правда, тоненькие тапочки, да что в них толку?
Прислонясь спиной к холодному выступу печки, сидел на корточках мужчина лет пятидесяти пяти, с изможденным лицом еврейского пророка, иссиня-бледный, с белыми, помутившимися глазами. Он устало поднял голову, на секунду задержался на мне взглядом и снова опустил ее на ладони. Между стойками с подвесными нарами стоял, дегенеративно улыбаясь, парнишка лет двадцати двух, по кличке Филиппок. Был он роста маленького, по плечо мужчине среднего роста, но известен был как убийца.
— За что тебя, Филиппок? — спросил я. — Опять кого-то убить собирался?
— Ы-гы-ы, — обрадованно промычал он в ответ, показывая коричневые от чифира зубы.
— А кого?
— Бригадира. Он меня, сука, на физзарядку гнал. Я ему хотел ножик в пузо загнать, а он, пес, в надзорку побежал.
Филиппок подсел к печке.
— Подвинься, Вульфович, — обратился он к своему соседу, — совсем с холоду подыхаю.
— Не греет, не надейся, — ответил тот.
— Вульфович-то с этапа голодовку держит, — пояснил Филиппок. Я ему говорю: загнешься ведь, и так жрать почти не дают, а в холоду таком без еды — хана. Сегодня вот совсем не дают жрать. Только завтра в обед кормить будут. А послезавтра опять ничего. Только кипяток в обед.
Чтобы немного согреться, я стал ходить по камере между двух стоек, к которым были пристегнуты нары. Черт возьми, сколько же я могу так прошагать? Но сесть не на что. Только бетонный пол. Вот откинуть бы нары! Но их открывают только в одиннадцать часов вечера, а сейчас только восемь утра. Я повертел замок: надежная железяка, ее и ломом не откроешь.
— Что, земляк, — вдруг обратился ко мне Вульфович, — лечь хочешь?
— Неплохо бы, — сказал я, — да как открыть? А откроешь — менты увидят и снова запрут.
— Открыть не проблема, — сказал Вульфович, — а насчет ментов не беспокойся. Дежурный мент один не зайдет — ему запрещено по инструкции, а каждый раз звать наряд, чтобы закрывать нары, он не будет. Иначе они бы только этим и занимались.
Вульфович, кряхтя, поднялся и осторожно, одними ногтями, отделил от стены кусок штукатурки. Стена была гладкой, не подумаешь, что в ней может быть тайник. Вульфович достал оттуда причудливо изогнутый гвоздь, поковырял им — и замок открылся. Вульфович откинул нары, положил отмычку в нишу и снова заложил штукатуркой.
— Вот теперь ложись, — сказал он. — Ты не больно-то двигайся здесь. Руками помашешь, согреешься, да энергию растратишь, потом еще холоднее будет. Так что лучше уж не двигайся.
Я лег на холодные доски и свернулся в клубок. Наступила тишина. Сколько же я провел здесь времени? Наверное, часа два не меньше.
— Вульфович, уже прошло два часа, как ты нары открыл?
Оба соседа рассмеялись.
— Ты что, — сказал Филиппок. — Минут десять прошло, не больше.
— Не может быть.
— Сразу чувствуется, что ты не часто в изолятор ныряешь, — сказал Вульфович. — Филиппок прав, минут десять, не больше.
Помолчали.
— Вот ежели, — забормотал Филиппок, — ты ему ножик в горло засунешь, то он глаза выкатывает, за глотку хватается и перед смертью ногами сучит, задыхается, значит. А ежели в пузо, то нож гладко заходит, как в масло. Гы-ы! Я на той зоне завхоза зарезал, а здешний меня и спрашивает: «Ты меня тоже зарежешь?» — А я ему: «Посмотрим, говорю, как ты себя покажешь».
— Тебя, Филиппок, в больницу-то возили? — спросил Вульфович.
— Возили.
— Ну и что?
— Гы-ы-ы. Сказали, что ненормальный я. Но что еще можно в больницу не ложить. Что, дескать, ежели меня не задевать, то я резать не буду. Так оно и есть, ежели меня не трогают, то я тоже не трону.
Из соседней камеры постучали. Вульфович прислонил ухо к стене, а потом вынул, но уже в другом месте, кусок штукатурки, за которым открылась сквозная дыра в соседнюю камеру.
— Давай, — сказал он в дырку.
Показалась длинная тряпка. Вульфович потянул ее и втащил к нам. Это был мешочек, привязанный к толстой нитке. Вульфович достал из носка пачку махорки, отсыпал из нее половину в мешок и скомандовал:
— Тяни.
Мешок исчез, и Вульфович снова закрыл отверстие.
— Надо парням подогрев послать, — сказал он. — Только вот у меня махра кончается, а что курить будем?
Вульфович раздал нам бумажки для самокруток, отсыпал в них махорки, из едва заметных трещинок в стене достал спичку и кусок спичечного коробка, чиркнул об него спичкой, и мы по очереди прикурили.
— Я, пожалуй, лягу на нары, — сказал Филиппок. — Когда свернешься, теплее кажется.
Филиппок улегся, и снова наступила тишина. Ну и холодище! И время будто тоже застыло. Сквозь заросшее инеем и льдом крошечное окошечко ничего не увидишь, даже свет и то не пробивается. Хоть вой с тоски!
Филиппок завозился, укладываясь поудобнее на холодных нарах.
— Не спится, — сказал он. — Холодно. Вот выйду, обязательно зарежу его, суку. Бритвой полосну его по глотке, я у парикмахера мойку[16] спер. Опасной лучше всего резать. Если по роже дать — человек сразу падает. А по пузу если шлепнешь — все разваливает. Сквозь телогрейку, сквозь все проходит. Хорошая штука. У-у-у, а пузо смешно резать. Я себе у кума в кабинете в позапрошлом году пузо резал — так шкодно оно лопается. Звук такой — пак, пак. Гы-ы-ы.
Филиппок заснул.
— Задремал, бродяга, — сказал Вульфович. — Мы тут совсем не спим. Так, иногда вздремнешь немного.
— Странно, тебя называют Вульфович, — сказал я. — Ты еврей?
— Еврей. Это мое отчество. Ты тоже меня называй так, если хочешь. — Вульфович улыбнулся. — Обычно в лагерях евреев называют жид. Но меня все называют Вульфович. Меня во всех лагерях знают. Это у меня уже двенадцатая судимость.
— Ого! И чем ты занимаешься?
— Так сразу и не объяснишь, — ответил он. — Вот, последний раз…
Последний раз Вульфович вышел с твердым решением завязать. Устроился рабочим на завод. Через полгода его сделали мастером. Голова у бывшего зэка имелась, а кроме того — умение ладить с людьми, завязывать дружеские отношения, вызывать к себе доверие… Вульфовича сделали заместителем начальника цеха. Дни и ночи он проводил на производстве, и результаты были поразительные. Ему предложили должность старшего диспетчера. Вульфович и там себя показал. Он так наладил работу, что все двигалось, как в часовом механизме: после двух-трех утренних часов и делать-то было нечего. И в этом крылась главная опасность.