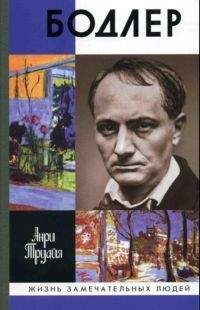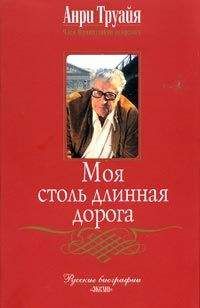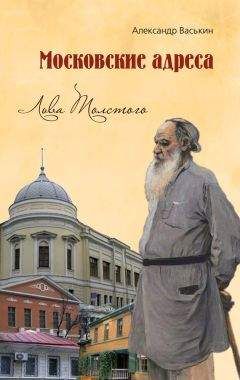Шанфлёри выполнил просьбу, опубликовав в газете «Корсэр-Сатан» от 27 мая заметку — правда, без подписи автора: «Господин Бодлер-Дюфаи пишет так же смело, как Дидро, хотя и не прибегает к парадоксам». Такая формулировка понравилась Бодлеру. Тем более что в другом месте Шанфлёри отметил схожесть взглядов Бодлера со взглядами Стендаля. Следует упомянуть также доброжелательный отзыв Вавассера (под псевдонимом Сивиль) в газете «Журналь д’Аббевиль» и статью Огюста Ватю в «Силуэте». Не густо! Но к тому времени Бодлеру уже хотелось, чтобы его брошюра о Салоне 1845 года осталась вообще незамеченной. Перечитав книжечку, он нашел ее посредственной. Неужели ему так и не удастся создать безупречное произведение, о котором он мечтает день и ночь вот уже много лет? Пусть одну книгу, но которой он смог бы гордиться от начала и до конца!
Пока же он пытался за спиной г-на Анселя выпросить у матери хоть сколько-нибудь денег. Он называл себя в письмах плохим сыном. Но у него ведь было столько уважительных причин, столько смягчающих обстоятельств! «Я несчастен, унижен и опечален, меня постоянно терзает нужда. Я думаю, что ко мне все же надо относиться со снисхождением, — писал он Каролине. — Еще немного, и я, может быть, разделаюсь со своими трудностями, душа моя станет свободнее, и я стану для тебя таким, каким всегда хотел бы быть. Если позволишь, нежно тебя целую».
Неожиданно, удрученный пустотой своего существования, он решает покончить с собой. По всей вероятности, он был не совсем искренен, принимая это крайнее решение. Конечно, он полагал, что смерть одним ударом избавит его от всех проблем, но в то же время надеялся, что, если случайно самоубийство окажется неудачным, перепуганные родственники станут более терпимыми и внимательными. Его привлекали одновременно и возможность уйти в небытие, и попытка улучшить свое материальное положение, он готовился умереть, надеясь на неудачу мероприятия. Не чуждый ни роковой решимости, ни трусливого обмана, он подмешивал правду в притворство и притворство в правду. И 30 июня 1845 года Бодлер приступил к выполнению своего замысла. Он написал длинное послание мэтру Анселю, своему советнику-юристу: «Когда мадемуазель Жанна Лёмер [Жанна Дюваль, его любовница] передаст Вам это письмо, я буду уже мертв. Она этого не знает. Вам известно содержание моего завещания. За исключением того, что положено моей матери, госпожа Лёмер должна унаследовать все, что я оставляю, после того, как Вы оплатите мои долги, список которых прилагается. […] Я убиваю себя, не испытывая сожаления. Мне чужды какие-либо переживания, именуемые тоской. Мои долги никогда не причиняли мне горя. Нет ничего проще встать выше этого. Я убиваю себя, потому что не могу больше жить, потому что устал и засыпать, и пробуждаться, устал безмерно. Я ухожу из жизни, потому что я никому не нужен и опасен для самого себя. Я ухожу, потому что считаю себя бессмертным и потому что надеюсь. В ту минуту, когда я пишу эти строки, я настолько ясно мыслю, что пишу одновременно еще кое-что для г-на Теодора де Банвиля, и чувствую в себе силу заниматься своими рукописями. Я завещаю и отдаю госпоже Лёмер все, что имею, в том числе мебель и мой портрет, ибо она — единственный человек, от общения с которым душа моя отдыхала. Кто может упрекнуть меня в том, что я хочу заплатить за редкие минуты счастья, какие выпали мне на этой ужасной земле? Я мало знаю своего брата, он не жил во мне и вместе со мной, он во мне не нуждается. Мать моя, так часто, сама того не желая, отравлявшая мне жизнь, тоже не нуждается в этих деньгах. У нее есть муж, она владеет человеческим существом, любовью, дружбой. А у меня есть только Жанна Лёмер. Только в ней я нашел покой, и я не хочу, не могу допустить мысль, что ее захотят лишить того, что я ей даю, под предлогом, будто я нахожусь не в здравом уме. Вы же слышали, как я беседовал с Вами в эти последние дни. Был ли я похож на умалишенного? […] Жанна Лёмер — единственная женщина, которую я любил, и у нее нет ничего. И вот Вам, господин Ансель, одному из немногих людей, кого я считаю наделенным возвышенным и добрым умом, Вам я поручаю исполнить последнюю мою волю в отношении этой женщины. […] Направляйте ее Вашими советами и — смею ли я просить Вас об этом — любите ее, хотя бы ради меня. На моем ужасном примере покажите ей, как беспорядок в душе и в жизни приводит к мрачному отчаянию или к полному уничтожению. […] Теперь Вы видите, что это завещание — не фанфаронство и не выпад против общественных идей и семьи, а просто выражение всего, что еще сохранилось во мне человечного — любви и искреннего желания принести пользу той, кто была иногда моей радостью и моим отдохновением. Прощайте!»
Закончив завещание, Бодлер нанес себе удар ножом в грудь. Рана оказалась неглубокой. Но поэт потерял сознание. Все это произошло в кабаре на улице Ришелье, в присутствии Жанны. Она попросила перенести раненого к ней, в дом 6 по улице Фамм-сен-Тет. Скоро подоспел врач, который всех успокоил и порекомендовал раненому полный покой. Шарль, с одной стороны, почувствовал облегчение оттого, что остался жив, а с другой — стыд из-за смешной царапины. Если бы он по-настоящему хотел покончить с собой, то выбрал бы более надежный способ уйти из жизни. Порез перочинным ножом выглядел несерьезно. Шарль, чувствуя себя еще очень слабым, захотел навестить мать, чтобы объяснить ей, что толкнуло его на такой шаг. Но Жанна, уходя, заперла его в своей комнате. Тогда он принялся писать Каролине письмо: «Я уже оделся, чтобы пойти повидать Вас, но дверь оказалась закрыта на два оборота ключа. Похоже, врач не хочет, чтобы я двигался. Так что пойти повидать Вас я сейчас не могу […] Может быть, Вы принимаете мои страдания за шутку? И смеете лишить меня возможности видеть Вас? Говорю Вам, что Вы мне нужны, что я должен Вас видеть, говорить с Вами. Поэтому придите ко мне, придите прямо сейчас, отбросив в сторону манеры. Я нахожусь у женщины, но я болен и не могу сам пойти к Вам […] Меня прячут, держат меня под замком, Вы не отвечаете на мои письма, мне пишут, что я не могу Вас видеть, что все это значит? Умоляю Вас, придите повидать меня, но сейчас же, сейчас же, и не надо криков». А в постскриптуме угроза: «Уверяю Вас, что если Вы не придете, это может привести к новым несчастным случаям. Я хочу, чтобы Вы пришли одна».
Конечно же Каролина бросила все и побежала к постели больного, несмотря на отвращение, которое ей внушала приютившая его мулатка. Увидев, в каком печальном состоянии и в какой нищете пребывает ее сын, она добилась от генерала Опика согласия временно приютить его в их апартаментах на Вандомской площади. А Шарль, ослабевший и растроганный, пообещал, в который уже раз, исправиться. И как бы в залог своих благих намерений даже согласился записаться в Национальную школу хартий, где готовили архивистов. Однако холодная дисциплина, царившая в доме, чопорные манеры прислуги, скука трапез за семейным столом претили ему. Едва придя в себя, он стал все чаще и чаше убегать из этой золотой клетки к своим друзьям. Но генерал требовал, чтобы пасынок возвращался хотя бы к ужину. Как-то в июле Шарль не смог вернуться к сроку и просил извинения в довольно бесцеремонной записке: «Извините меня за это нарушение „устава“, поскольку оно у меня первое».