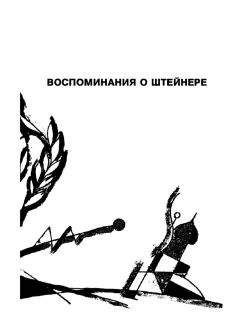Спустя несколько дней мне приснился покойник в древнерусских одеждах на великолепном катафалке. Его лик изменялся от выражения грубой чувственности до христиански просветленной духовности. На следующий день мы узнали об убийстве Распутина… Наступил хаос.
Благодаря лекциям Рудольфа Штейнера и пребыванию возле него мы могли интенсивно сопереживать тому, что разыгрывалось во внешнем мире. Но нам приходилось в бессилии видеть, что он — тот, кто мог вмешаться и помочь — не имел для этого условий; сами мы также были неподходящими инструментами, чтобы послужить ему в этом.
Доктор Штейнер часто задерживал нас, чтобы поговорить с нами об обрушивающихся на мир событиях. Мы не ожидали, что он обрадуется разразившейся в России революции. Ошибки царизма исправить было невозможно. "Наконец Россия освободилась от этой ужасной кармы Романовых", — сказал он. — "Почему Вы повесили нос? Русские должны радоваться будущему!" Он надеялся на новый порядок в России. — Я видела воочию наступление хаоса и разрухи — то, что он сам так часто предсказывал, и лишь отчасти могла разделить его уверенность. Только позднее я поняла, что событиям — как и тяжелой болезни — надо до последнего момента противопоставлять надежду на чудо. В этом скрыта целительная сила.
Брест-Литовский мир я пережила как страшное несчастье для будущего. "Если бы людям дали трехчленность, они поняли бы ее; у них есть для этого головы", — заявил доктор Штейнер. При этом он имел в виду руководство русской комиссией. Однако его попытки донести до авторитетных лиц свою идею нового социального устройства не удались.
Однажды в начале 1918 года я встретила его утром в столярной. "Вы читали сегодня в газете обращение Вильсона с 14 пунктами? Что Вы об этом думаете?" — "Да, господин доктор; я не нашла там ни одной новой мысли". — "Ни одной новой мысли! — подтвердил он, — ни одной. Но Вы увидите, весь мир теперь присягает этому". — Больше всего он страдал от пустословия, которым часто прикрывалась ужасающая лживость.
В Рождество 1916 года доктор Штейнер прервал ориентированные на современность лекции, чтобы поговорить с нами о гнозисе. Это чудесно встраивалось в длинный ряд дорнахских рождественских лекций. Как только он произнес слово "гнозис", во мне что-то затрепетало, как в тот первый раз, когда я встретила это слово в школьном учебнике и оно вызвало у меня мечты и образные переживания. В какой-то степени это предваряло будущее. Однако силы мои быстро таяли. Теперь я поняла, почему доктор Штейнер постоянно справлялся о моем здоровье. Я была вынуждена оставаться дома и следовать — через посредство доктора Фридкиной — его советам. Единственное, что мне позволили делать этой зимой спустя какое-то время, — это посещать лекции и в качестве зрителя участвовать в вечерних репетициях. "То, в чем я Вас могу упрекнуть, — сказал мне доктор Штейнер, — так это Ваша самонадеянность: Вы думаете, что можете вынести все, и не можете единственный раз вынести самого малого". Он прекрасно знал меня.
В тишине своей "больничной палаты" я пыталась разрешить вопрос: какова моя теперешняя ситуация после той бури, которая в течение нескольких лет свирепствовала вокруг меня? Совместная дорога с моим спутником жизни оборвалась. При этом ушло многое из мира переживаний в первые годы близости к антропософии. Также пребывание на людях и тяжелый физический труд в последние два года привели меня к истощению сил. Словно стеклянной стеной я была отделена от духовных переживаний, которые все еще заявляли о себе в образах, но их реальность все реже доходила до меня. Стеклянная стена отделяла меня и от жизни. Было так, словно я находилась в каком-то светлом, прохладном мире, где некий насмешливо-издевательский голос низвергал все мои ценности. Слушать его у меня не было сил. Я была вынуждена приобретать зрелость в споре с чуждой мне жизнью. Лишь тогда я отваживалась на встречу с этим голосом. Только не мыслить в категориях тех людей, говорила я себе, для которых антропософия превратилась в арсенал догматов и постамент, с высоты которого пренебрежительно отмахиваются от остального мира…
В Здании я не могла работать еще в течение нескольких месяцев. В это время у меня появилась возможность заново обратиться к работе над светотенью в художественных образах, прерванной несколько лег назад. С детства этот мир казался мне таинственным, вызывал вопросы, которые я не умела сформулировать. С помощью светотеней я воспринимала то, что меня окружало, но прекраснее всего была сама их игра: их взаимодействие в воздушном пространстве могло заворожить, проявляясь в нагромождениях облаков, в прозрачных картинах-негативах. За всем этим можно было ощутить мир сущностей. Изучение в Брюсселе искусства гравюры принесло в конце концов разочарование. Гравюра подчиняла светотень пластическому началу и тем самым умерщвляла ее. Или же она полностью отрицала светотень, как это делает и современная живопись. Мой учитель, старый мастер Август Даше, которому было уже 80 лет, когда он принял меня, 18-летнюю девушку, в своем доме и мастерской в Брюсселе, приобрел известность прежде всего своими превосходными гравюрами со знаменитых произведений живописи, но также благодаря прекрасным портретам и пейзажам. Поэтому он поддерживая мои замыслы В этой области, которые также были признаны на выставках. Однако это не привело меня к тому, что я считала за искусство. Мешала присущая мне склонность к подражанию природе.
Теперь я попыталась в нескольких рисунках положить тенив одномнаправлении независимо от формы, — тем не менее так, чтобы была передана трехмерность. Получилось недурно, но я не была удовлетворена. Если бы доктор Штейнер помог мне прийти к новому способу передачи формы, основанному на светотени, свободному от зрительно воспринимаемой игры света и теней! Для освобождения от чувственно данного и в качестве исходной точки обучения, может, мне бы удалось использовать какие-то свои внутренние переживания. При этом я могла бы поддерживать отношения с доктором Штейнером, поскольку после отъезда Бугаева я больше не хотела обременять его своими посещениями.
Доктор Штейнер с готовностью пошел навстречу моему невысказанному желанию, и это положило начало нашей трехлетней совместной работе по созданию форм с помощью светотени; так для меня возник неиссякаемый источник все новых открытий. Только спустя годы я поняла, почему мир света и теней казался мне столь загадочным, — обнаруживающим и при этом скрывающим действительность. Если неуклонно следовать этому пути, то придешь к такому художественному принципу изображения, который пробудит творческое начало, свободное от представлений.